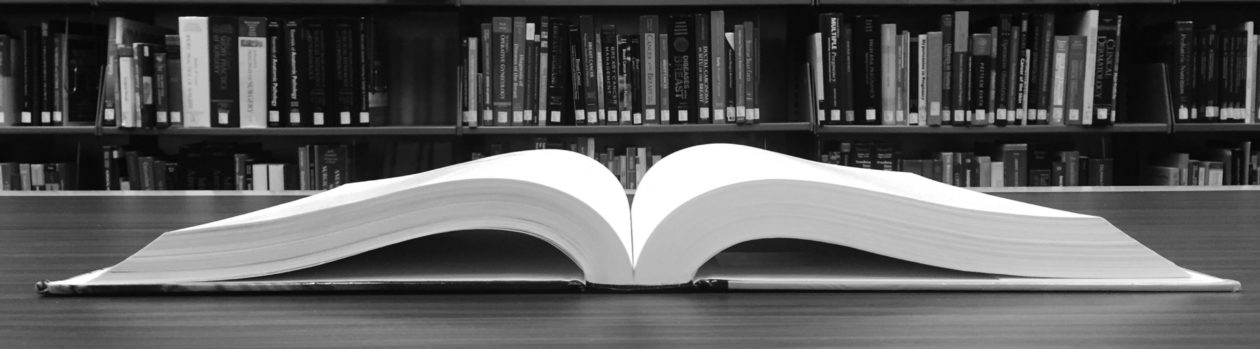Живу, пишу не для похвал;
….
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),Укажет будущий невежда
Евгений Онегин.
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Введение.
Обращает на себя внимание такой парадокс русской культуры. А.С. Пушкин всеми почитался как гений русской литературы, причем еще при жизни. Даже император всероссийский Николай Первый, несмотря на некоторые весьма недружелюбные стихотворения, говорят, назвал Александра Сергеевича умнейшим человеком России. И при всем том, какое значительное пушкинское произведение ни возьми, литературная критика редко находила в них красивую идею или глубокий замысел. Чаще всего она хвалила точно схваченные детали быта, политические идеи, яркие типажи, мастерское владение словом.
Например, одно из самых известных произведений Пушкина «Дубровский» названо разбойничьим романом о русском Ринальдо и его несчастной любви, то есть чем-то вроде любовного триллера. Белинский после первых восторженных впечатлений не нашел в романе того, что обычно искал, и притушил восторги:
Вообще вся эта повесть сильно отзывается мелодрамой. Но в ней есть дивные вещи. Старинный быт русского дворянства…
Даже Анна Ахматова, не обремененная, как Белинский, революционной сверхидеей, и потому вполне объективная к Пушкину, вынесла такую оценку:
Вообще считается, что у П<ушкина> нет неудач. И все-таки «Дубровский» ― неудача Пушкина. И слава Богу, что он его не закончил. Это было желание заработать много, много денег, чтобы о них больше не думать
Другие оценки, сделанные под давлением таких авторитетов, в том же примерно духе. Еще больше досталось «Повестям Белкина», которые Белинский назвал побасенками и т.д. Современное преподавание законсервировало это противоречие: слава Пушкина растет, он уже «наше все», а осмысление его творений осталось на уровне сиюминутной критики, искавшей «дубинку против самодержавия».
Почему так получилось понять несложно, если погрузиться в атмосферу двадцатых годов девятнадцатого века. Слава Пушкина как великого поэта создавалась во времена тайных обществ декабристов. Его свободолюбивые стихи учили, переписывали, распространяли, им подражали. Пушкин был самым талантливым, искрометным, глубоким и ярким среди образованной антисамодержавной фронды. Для горения революционного духа важна краткость мысли, яркость образа, точность и острота фразы. Все это было в пушкинской поэзии тех лет. Но еще важнее для тех, кто готов жертвовать жизнью ради идеи, было чувство, что некая высшая сила, высшая правда в лице пророческого духа, божественного дара, обитавшего в Пушкине, благословляет революцию, их борьбу. «С нами Бог!» – вот клич, который нужен душе даже атеиста и пламенного борца за свободу, даже если это свобода от Творца. Это главная антиномия революции! Постдекабристскую прозу и поэзию ожидал часто менее восторженный прием. Пушкин открывал новые явления русской жизни, прозревал направление исторических путей России, видел пружины истории, осмыслял место человека и промысла Божьего в истории, влияние общественного мнения на политику и жизнь, а критики искали мелких уколов, высмеивания властей, обличения пороков, призыва к борьбе и т.д.
Тем не менее, можно не сомневаться, что думающие люди золотого века русской литературы смотрели и выше и глубже, чем кажется на первый взгляд. Под событийным покровом пушкинских тонких и мудрых произведений-притч они открывали то, что действительно занимало сердце и ум Пушкина. И эти люди, как весьма влиятельные в русском обществе, хотя и не публиковались в критических журналах, формировали отношение к великому писателю. Многие просто чувствовали глубину пушкинских творений, их гениальную простоту и цельность, но не пытались выразить эту оценку в форме ясной и позитивной критики. Остальным приходилось соглашаться, отыгрываясь на мелочах.
Попробуем и мы взглянуть на великое творение гения Пушкина свежим взглядом, не засоренным нагромождениями «авторитетных» критик позапрошлого века.
Но сначала…
Изложим события, описанные в романе, следуя общепринятой легенде:
События в романе происходят, по поверхностному ощущению, в течение от полутора до трех лет. Молодой Дубровский узнает о болезни отца и угрозе потери родового имения, бросается из Петербурга на родину, застает отца недалеко от могилы, умирающего на его руках; движимый праведным гневом к обидчикам родителя и к любителям неправедной наживы, он сжигает свой дом, в котором погибают непрошенный гости — исполнители

злой воли местного богача, отнявшего у Дубровского имение и погубившего отца; Дубровский скрывается с верными ему людьми в лесу и превращается в российского Робин Гуда или Ринальдо Ринальдини, справедливого разбойника; он грабит зарвавшихся богатеев, вороватых приказчиков, обманывающих своих господ; лукавым и злым становится неуютно и страшно в губернии, а честным и смелым ничего не грозит;
Дубровский планирует отомстить своему главному обидчику помещику Троекурову, кружит вокруг его дома, планируя поджог, но влюбляется в его дочь и ради нее прощает Троекурова; воспользовавшись случайно встречей с мусье Дефоржем, он под видом француза-учителя появляется в их доме; распоясавшийся самодур пытается подшутить над «мусье», как раньше шутил с трусоватыми гостями, но Дубровский не из робкого десятка; он являет самообладание и смелость, убив напавшего на него медведя из маленького пистолета, и завоевывает симпатии Маши и даже самого

Троекурова; после наказания помещика Птицына, одного из обидчиков отца, разоблаченный Дубровский вынужденно скрывается из имения Троекурова; Марья обещает в случае опасности прибегнуть к его помощи; случай вскоре является: сватовство престарелого князя Верейского; мольбы Марьи Кириловны к отцу не спасают ее, но она призывает на помощь Дубровского; Дубровский останавливает со своей командой карету с обвенчанными по дороге в имение князя, но Марья Кириловна, хотя не произносившая клятву верности во время обряда бракосочетания, уже сломлена и смирилась судьбе; Дубровский ранен князем, но по просьбе Марьи Кириловны оставляет князя живым и отправляется в лес; вскоре появляются солдаты, происходит сражение; Дубровский, в очередной раз явив бесстрашие, убивает офицера и решает ход сражения; не видя смысла продолжать образ жизни разбойника, с разбитым сердцем, Дубровский решает покинуть родные места, напоминающие ему о его трагической любви, распускает отряд и, возможно, покидает Россию.
Теперь изложим фабулу романа, учитывая скрытые намеки, понятные друзьям Пушкина и тем, кто был участником той великой эпохи, а потом постараемся раскрыть подробности замысла и внутренний смысл романа.
Отметим, что по нашему мнению роман не имеет ничего общего с приключенческой историей и является гениальным произведением Пушкина, результатом его глубоких и многолетних раздумий о событиях 1825 года, которое, чтобы избежать цензуры, было написано в форме приключенческого романа. Вернее, роман имеет поверхностный слой, который все называют «разбойничий роман» и более глубокий, связанный с историей декабрьского восстания 1825 года. Главный герой — один из тех гвардейцев, которые в преддверии мятежа развлекали себя его подготовкой и бравировали этим в глазах товарищей, но затем по случаю или преднамеренно, поспешили избежать участия в нем. Таких меж заговорщиков было немало. Дубровский, в отличие от некоторых романтиков-декабристов, окончивших свой путь на каторге, был род прагматичного до цинизма наполовину буржуа, имел внешний лоск, но испорченную душу. Он из тех, кто следовал политической моде, тяге к переменам, но с легкостью менял убеждения в опасности.
Роман по сути является его воспоминанием о тех годах, наполненным оправданием себя в собственных глазах и глазах читателя, а также умолчаний. Таков вообще был язык высшего общества. Повествование ведется участником событий, но не от первого лица, как «Капитанская дочка». Нет также и предисловия от издателя, как в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина». Нам приходится догадываться, что автором «разбойничьего романа» по замыслу Пушкина является сам главный герой. Но это поверхностное и далеко не всегда честное повествование – лишь притча, под которой обнаруживается совсем другая история и глубокий смысл, то есть глубинный роман, автором которого является уже сам Пушкин. Проницательный читатель, знавший ту эпоху и привыкший видеть за словами суть, легко мог снять романтическое покрывало и обнажить то тайное, что по соображениям цензуры Пушкин был вынужден скрыть.
А прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют
(Евангелие от Луки)
Действия разворачиваются на протяжении семи или восьми лет — это важно, так как центральным событием, невидимой осью, вокруг которой построено повествование, было восстание декабристов. Оно разделяло эпоху на до и после, также и людей.
Пушкин мастерски распоряжается временем по ходу повествования, легко передвигаясь на годы или недели вперед и назад: три года и три недели порой кажутся читателю имеющими одну длительность. Субъективно время так и воспринимается нами, когда ум выхватывает из памяти прошлое – именно так строится живой рассказ, подчиняясь связности мысли и сути, а не строгой последовательности и длительности событий, как в летописи. Но мы для удобства исследования выпрямим эти временные петли и зигзаги, взяв в качестве реперной точки тонкий намек, позволяющий в романе обойти опасный декабрь 1825 года — упоминание об исключительно теплой зиме 1824 года.
Расскажем историю Дубровского, какой она была на самом деле. Итак, осенью («раз в начале осени…») 1822 года родители главных героев романа Владимира Дубровского и Марьи Троекуровой, бывшие сослуживцы и друзья, повздорили; более влиятельный, вспыльчивый, но отходчивый Кирила Петрович Троекуров, разгоряченный обидой и наливками, затеял тяжбу против Андрей Гавриловича Дубровского, поначалу едва ли серьезную, дабы отобрать у него имение; это случилось летом 1823 года («июня 9 дня взошел в … суд»); дело длилось полтора года и окончилось оглашением приговора 10 февраля 1824 года; Андрей Гаврилович тяжело перенес оскорбление, а затем несправедливость и подвинулся рассудком; Троекуров был потрясен внезапным сумасшествием друга и, не сказав ни одного приветливого слова судьям, отбыл; сын Андрея Гавриловича Владимир ничего не знал о случившемся, с отцом долго не списывался, и по окончании кадетского корпуса весной 1824 года был зачислен унтер-офицером в гвардейскую пехоту; полк Дубровского располагался в Петербурге или в Гатчине недалеко от столицы или в

известном местечке будущего восстания декабристов Васильково (намек содержится в «Записках молодого человека», 1830 г.); Дубровский проводил время, как бывало нередко в ту либеральную преддекабристскую эпоху, не в расположении полка, а на квартире в Петербурге; у него собирались офицеры, входившие в одно из тайных обществ, сидели на диванах, курили трубки и в дружеской обстановке обсуждали планы перемен; в один из таких вечеров в начале лета 1825 года на квартиру доставили письмо; письмо дошло к адресату с опозданием в несколько месяцев; в письме няни сообщалось о болезни отца, о необычной декабрьской погоде 1824 года (реперная точка в романе, точно определяющая временную привязку событий) и о грозящем молодому барину разорении; на рассекреченной квартире делать было нечего, и Дубровский, повинуясь чувству к отцу и, возможно, предусмотрительно избегая будущих преследований, берет отпуск и прибывает в родную Кистеневку, там застает еще живого родителя и проводит лето в имении; ему было в то время двадцать (отправлен в кадетский корпус восьми лет и двенадцать не был дома); прошло несколько месяцев, как истек годовой срок апелляции; к Троекурову, выждав достаточно (полгода), чтобы генерал оправился от потрясения, явился судейский докончить дело и получить свою выгоду; вместо денег исправник получил от генерала отлуп («Пошел вон, не до тебя»); Кирила Петрович уже остыл, усовестился и пожелал примириться с другом, однако его приезд в Кистеневку осенью 1825 года («это было уже в конце сентября») с миром оканчивается трагически: смертью Андрея Гавриловича; Дубровский поджигает имение и чужими руками убивает исправника с судейскими, затем уезжает прочь «куда бог поведет», навсегда простившись с дворовыми (« будьте счастливы с новым вашим господином»); в Петербурге через месяц после отъезда Дубровского из Кистеневки случается декабрьский мятеж 1825 года? Мятеж подавлен, виновные наказаны, многие офицеры уволены; в губернии участились грабежи, появилась банда (возможно, не одна), рождаются слухи о Дубровском, которые постепенно превращаются в легенду о благородном разбойнике; после мятежа корнета Дубровского, вероятно из-за отпуска избежавшего подозрений, переводят в Петербург в конную гвардию (свидетельство — белая фуражка), он становится офицером; возможно также и даже весьма вероятно, что Дубровский заслужил поощрения тем, что участвовал в подавлении восстания на стороне властей; привычка к состоятельной жизни требовала расходов, а поступления из имения полностью прекратились; Дубровский, как это практиковалось в те годы, мог закладывать и перезакладывать крестьян, которые до переписи (сказки) числились за ним, хотя и принадлежали по суду Троекурову; можно предположить, что рано или поздно мошенничество открылось (или он решил сам упредить суд и арест), нужно было немедленно скрыться, где-то переждать, и затем покинуть страну; Владимир отправляется на перекладных по почтовому тракту, куда глаза глядят, прихватив с собою шкатулку с ассигнациями; глаза в таких случаях обычно смотрят в сторону родных мест, куда он и прилетает на всех парах впервые за последние три года в конце сентября 1828 года (ему теперь 23 года со слов Троекурова и из бумаги исправника); на станции Песочное, недалеко от Покровского и Кистеневки Дубровский встречает француза Дефоржа; француз направляется учительствовать к Троекурову, которого за давностью лет и жизнью в свете молодой Дубровский даже не сразу вспомнил; сообразив, что ему по-крупному повезло, он пользуется случаем, покупает документы француза, переодевается в личину иностранца, а мошенник и несостоятельный заемщик Дубровский проваливается, как сквозь землю; около месяца он учительствует и как будто «увлекается» дочерью Троекурова Марией, в основном в расчете на богатое приданое, «мечту бедной молодости»; однажды Кирила Петрович, чтобы повеселиться запирает псевдо-Дефоржа в комнате с медведем; Дефорж не растерялся, вставил почти ручному мишке в ухо пистолет и пристрелил его, и «храбростью» завоевал симпатии девушки и уважение отца; во время праздника Покрова 1 октября 1828 года все общество двух губерний собирается в доме Троекурова в Покровском; гости рассказывали о разбойнике Дубровском многочисленные истории, но никто не узнал его в Дефорже; через эту очную ставку для внимательных читателей открывается, что «благородный разбойник Дубровский» — мифический персонаж, которого никто из местных ни разу не видел; ночью Дубровский, узнав ,что его сосед по комнате прячет деньги в сумочке на груди, «не мог удержаться от искушения… и решился ею завладеть»; Дубровский раскрыт, но он хладнокровен и ограбленный Спицын молчит во время завтрака, с ужасом поглядывая на «учителя»; Дубровский пользуется нечистоплотностью исправника, чтобы знать планы полиции и избежать ареста; у него есть несколько дней, чтобы покинуть Покровское и попытаться увлечь с собой Марью Кириловну, наследницу большого состояния; перед бегством заграницу с паспортом Дефоржа Владимир «добивается тайного свидания», называет Марии свое имя, полагая, что открыв свое благородное происхождение, устранит этим единственное препятствие к сердцу и руке девушки, но… неожиданно, она непреклонна; Владимир признается в любви, молит, пугает отчаяньем, но все, чего достигает — обещания обратиться к нему за защитой в крайних обстоятельствах; Дубровский, имея украденные деньги, а также часть ассигнаций, оставшихся от мошеннического залога, и паспорт француза, безопасно покидает Россию и живет заграницей, там знакомится с князем Верейским; примерно через год в начале лета 1829 года князь Верейский впервые появляется с своем имении; он знакомится (вероятно, по совету Дубровского) с Троекуровыми; пятидесятилетнему князю понравилась красивая Марья Кириловна; девица двадцати одного-двадцати двух лет была на выданье уже на последних сроках приличия; отец, желающий дочери семейного счастья, рад бы отдать ее за еще не старого, умного, сдержанного и состоятельного жениха; трезвомыслящий князь Верейский не верит в легенды о разбойнике Дубровском и приятельствует с ним (это ясно из дальнейшего подробного разбора); есть основания полагать, что все это время Дубровский гостил у князя в имении и был советчиком в его сердечных делах; цель Дубровского — получить красивую жену с богатым приданым и наследницу огромного состояния; он загоняет, как дичь, Марью Кириловну в жены к князю, манипулируя обоими — насильственный брак с князем было единственное, как она признала, что могло бросить ее в объятия Владимира; Дубровский первый узнает о сватовстве князя и назначает свидание в день сватовства; на свидании Владимир, знающий страхи девиц перед

неизвестностью брака, пытается стращать ее ужасной жизнью с «развратным стариком» и обольщать в духе французских романов, но сердце Марьи Кириловны не отзывается – она умнее и глубже, чем думал о ней Дубровский (ошибка, допущенная также Онегиным в отношении Татьяны); она готова выйти за Дубровского только если будет угроза худшего — брак с князем; тогда Дубровский подучает неопытную Машу поговорить со вспыльчивым отцом так, чтобы ненавистный ей брак стал неизбежным; Марья Кириловна, привыкшая быть прилежной ученицей Владимира, поступает в точности, как он ее научил и в разговоре с отцом угрожает обратиться за помощью к Дубровскому; смягчившийся было слезами дочери Троекуров пришел в ярость; венчание назначено; Дубровский рассчитывает, что Марья Кириловна не будет произносить согласия на брак во время обряда, чтобы затем признать брак насильственным, а венчание недействительным; Дубровский дожидается пока все совершится, чтобы не оставить Марье Кириловне иного пути кроме бегства с ним и лишь затем нападает на экипаж князя; Марья Кириловна неожиданно для Дубровского смиряется с своей участью, ее чистая душа, не выносящая интриг и расчетливых схем принимает все как есть; Бог избавляет ее от несчастья быть женой нелюбящего ее Дубровского и дает ей в мужья умного и интересного князя; ее неприязнь к князю была, возможно, лишь страхом перед переменами и неизвестностью; Дубровский ранен, он скрывается в заранее приготовленной для невесты землянке в кистеневской роще; вскоре после нападения на князя в рощу направляются солдаты; раненый Дубровский возглавляет оборону, происходит бой; Дубровский в форме офицера неожиданно появляется перед солдатами и офицером; приняв его за своего, они позволяют приблизиться; Дубровский подходит, неожиданно приставляет пистолет к груди офицера и стреляет. Сражение выиграно. Дубровский прощается с разбойниками и отбывает заграницу зимой 1829-1830 г.

Пытаясь из очень сжатого, скупого, но емкого текста восстановить весь ход событий, мы нисколько не обольщаемся, что достигнем полного успеха. Пушкин ничего не объясняет, как было принято в литературе, писаной для широкой публики. Это свойство всей его прозы — она нисколько не проигрывает от того, что мы не все в романе понимаем. Ведь также бывает и в жизни. Причем всегда.
Но главное – мы имеем два прочтения романа. Одно – лежит на поверхности, желательное для главного героя, который по замыслу Пушкина является повествователем, «автором» всей истории. Он рассказывает ее так, чтобы мы поверили в благородного дворянина, ставшего разбойником, и его трагическую любовь. Это и определило то, что повествование воспринято многими за чистую монету. Другое прочтение – то, которое мы представили после первого. Оно не может быть иным, если мы относимся к словам рассказчика критически, учитывая его субъективность — как обычно делаем в жизни, слушая чью-то историю. Мы обращаем внимание на детали и противоречия в словах рассказчика, и перед нами предстает настоящая картина событий. Пушкин же, введя такого заинтересованного в умолчаниях повествователя, выиграл тем, что и цензоры попали в группу «наивных читателей».
Начнем с довольно скучного вопроса, который мы вскользь затронули: сколько времени длилась вся изложенная в романе история, и когда она в реальности происходила? Это немного нелогичный подход, но необходимый, если мы хотим понять замысел писателя. Ниже приведены только самые общие сведения о датировках, подробный разбор и объяснения которых приведены в конце статьи.
Датировка и протяженность во времени событий повести. Все время действия романа растянулось на девять лет.
Традиционно считается, что роман охватывает всего полтора, максимум два-три года. Мы покажем, что это не так: все действия растянулись на семь — восемь лет и расположены вокруг главного события той эпохи – восстания декабристов в 1925 году.
Пушкину во что бы то ни стало нужно было избежать прямого упоминания декабря 1825 года, дабы роман не попал под полный запрет цензурой. Он нашел довольно оригинальный способ, как обойти «угрюмых сторожей». Привязкой к временной шкале можно считать письмо няни к Владимиру Дубровскому, в котором упомянута невероятно мягкая зима 1824/1825 года: «дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около миколина дня». День памяти Николая Чудотворца, в простонародье «миколин день», празднуется 6 декабря по старому стилю. Значит, дожди продолжали идти в тот год до середины декабря как минимум. Вспоминаются строки: «Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Необычная зима и дождливый декабрь запомнились всем современникам Пушкина. В те дни (4 декабря 1824 года) Пушкин пишет письмо брату и сестре и заканчивает его припиской: “Сижу дома да жду зимы”. Дождался Пушкин зимы в ночь на 3 января 1825 года, то есть на 16 января по новому стилю.
Есть, однако, и летний «миколин день», или «Никола Вешний», празднуемый 22 мая. Только крестьяне, для которых погода и приметы имеют огромное, определяющее значение в жизни, никогда бы не стали упоминать обычные для весны дожди в письме. Это равно как сказать, что на дворе есть воздух. Речь, конечно, о декабре. Но о теплом декабре 1824 года помнил не только Пушкин, помнили и цензоры. Они легко все выстроить и прийти к появлению Дубровского в Петербурге в декабре 1825 года. Даже намеки на восстание были под строжайшим запретом. Чтобы замести следы Пушкин, нам кажется, придумал получение письма весной. Если по оставленным подсказкам не догадаться о задержки письма, то и год не определить: весной вокруг «миколина дня» всегда идут дожди, каждый год.
Но вернемся к письму Орины Егоровны. В нем упомянут некий пастух Родя, умерший «около миколина дня». Кто такой Родя для Дубровского, покинувшего имение в восемь лет и ни разу там не бывшего после, чтобы помнить его? Мало ли крестьян умерло за год? Дожди… Родя… «Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки». Но няня была не глупа. Нет. Она была из крестьян, то есть для образованного столичного общества почти иноплеменница. Написанное ею было понятно любому крестьянину, и даже помещикам, жившим в имениях на земле, без толкования – народ-то жил приметами. Вспомним хотя бы из «Онегина»: «Татьяна верила преданьям…». А приметы на зимний «миколин день» (в отличие от летнего) были особенно важными и определяли жизнь крестьян в наступающем году. Обе упомянутые Ориной Егоровной приметы на будущий 1825 год оказались очень, очень плохими. Вот няня и взялась за письмо, полагая что ее «соколик» мыслит, как все вокруг: если в миколин день земля хотя бы не припорошена снегом, то это к большому неурожаю, а смерть Роди– к несчастьям. Так что ожидания крестьян в имении Дубровских были самыми тревожными: барин помрет и будет голод! Пушкин, которому Арина Родионовна (сравните имена: няня Орина и пастух Родя в «Дубровском»), рассказывала в детстве о крестьянской жизни, внимательно относился к «преданьям простонародной старины». Особенно он сблизился с Ариной Родионовной в ссылке в Михайловском, которая, как известно, пришлась именно на 1824-1826 годы. Фактуру для своих произведений Пушкин часто брал из жизни. Так что толкование примет о затянувшейся осени 1824 года Пушкин мог услышать от нее. Резонно предположить, что и некий пастух умер в Михайловском в те дни, а потом истолкованная няней примета пришла на ум Пушкину, когда ужасный и кровавый 1825 год стал ее исполнением.
Получив письмо в начале лета 1825 года, Дубровский берет отпуск и в три дня он уже на тракте. Еще через несколько дней он оказывается на Волге (из окон усадьбы соседнего имения Арбатское князя Верейского открывался вид на Волгу). Возможно, Пушкин имел в уме места, где сам провел 1824-1826 годы.
Итак, Дубровский пребывает в начале лета в Кистеневку, где на «некошаном лугу» пасется лошадь. После смерти отца в конце сентября 1825 года и похорон он отбывает в неизвестном направлении.
Двигаясь вперед и назад во времени от этого «миколина дня», то есть от 6 декабря (по ст.с.) 1824 года, мы сможем достаточно точно определить всю временную шкалу.
Формальный расчет показывает, что действие романа начинается осенью 1822 года со ссоры Кирилы Петровича с другом и соседом Андреем Гавриловичем. Далее, строго следуя неприметным указаниям автора, мы продвинемся вслед за событиями и попадаем в «миколин день» 1824 года, отмеченный в письме Орины Егоровны, а затем и далее до 1829 года.
Пушкин словно невзначай определил даты событий в романе, и они чрезвычайно важны для понимания его содержания. Это свидетельство серьезности романа — одного из самых остроумных, глубоких и ключевых исторических произведений писателя. Мы убеждены, что совершенно необходимо опровергнуть сложившийся стереотип, будто Пушкин легкомысленно вставил в текст даты, месяцы, сезоны, праздники, года. Такое отношение повелось от основателя пушкинистики П. Анненкова, который счел Пушкина поверхностным и небрежным к датам. Анненков в известных «Материалах» к биографии обращает внимание на невыдержанность, как ему кажется, общего стиля повести и несоответствие времен. Отмечая, что «Дубровского» Пушкин писал всего в продолжение трех месяцев, даже карандашом, Анненков делает вывод: «Эта быстрота сочинения объясняет некоторые перерывы и отчасти романтический конец ее…».
Итак, вопреки первоначальному ощущению быстротечности, мы сможем убедиться, что роман охватывает большой период времени.
Дубровский и восстание декабристов.
«Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись на диванах и куря из его янтарей…». Дубровский. Глава III.
«Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека». Дубровский. Глава III.
Ранее мы выяснили, что Владимир Дубровский оказался в самом эпицентре декабрьского восстания 1825 года. Каким же образом гвардейский офицер благополучно избежал проблем после поражения декабристов? Участвовал ли Владимир непосредственно в мятеже или уклонился? Был ли он участником тайных обществ? На эти вопросы прямых ответов нет, но некоторые подробности повествования позволяют нам делать более или менее реальные предположения.
Трубки и диваны.

После выхода из Кадетского корпуса Дубровский оказался в гвардейском пехотном полку, о чем знала его бывшая няня Орина Егоровна, написавшая ему письмо. Большинство полков располагались в столице, некоторые за ее пределами, в Гатчине или даже в Васильково Черниговской губернии. Как бы то ни было, Дубровский проводил время скорее в Петербурге, чем в Черниговской губернии, в обществе офицеров, за картами, развалившись на диванах и покуривая табак из модных тогда длинных янтарных мундштуков. Из Турции через Европу появились в России сначала трубки (при Петре), а затем и диваны. Обычно курили до 1830-х годов исключительно в мужских компаниях с близкими друзьями и единомышленниками. Эту традицию доверительной беседы за раскуриванием табака завезли из Парижа офицеры, любители свободы и европейской моды. Одной фразой Пушкин дает намек тем, кто сам не раз сиживал на диванах и покуривал из янтарей, что Дубровский – участник тайных встреч, всегдашних посиделок, за которыми офицеры обсуждали власти и мечтали о конституции. Это был недвусмысленный знак. В одном из писем своему лучшему другу Павлу Воиновичу Нащекину, тоже бывшему офицеру, Пушкин писал: «много скопилось для меня в этот год такого, о чем не худо бы потолковать у тебя на диване, с трубкой в зубах». Пушкин сам несколько раз был на конспиративной квартире Южного тайного общества в Тульчине в феврале 1821 года, в августе и ноябре 1822 года, встречался с Пестелем, вел откровенные разговоры о будущем России, общался с другими деятелями Южного общества, друзьями Пестеля Юшневским, Басаргиным, Раевским. Молодые офицеры собирались на квартире Пестеля. Наверняка обстановка и атмосфера там была весьма схожей с описанной в романе. В будущем восстании принимали участие в основном именно гвардейские пехотные полки. Гвардейские офицеры, в том числе удаленного Черниговского полка, часто подолгу оставались в Петербурге с позволения старших товарищей и собирались по вечерам у состоятельных сослуживцев.
Раскрытие квартиры тайного общества.
Итак, Дубровский был участником тайных офицерских заседаний, происходивших у него на квартире. «Будучи расточителен и честолюбив», он мог брать на себя расходы, чтобы играть заметную роль в движении. Вполне очевидно, что офицеры были осторожны и скрывали место собраний, так что Дубровского немало удивила надпись на конверте полученного из дому письма. Надпись, очевидно, уточняла адрес и указывала на квартиру, которая по замыслу должна была быть секретной («надпись и печать тотчас поразили молодого человека…»). Без опыта и четкой организации все предусмотреть невозможно. Русская конспирация в своем начале, как и вся революционная работа, требовала долгой эволюции, чтобы обрести со временем вид порядка. Поразила Дубровского, как сказано, не только надпись, но и печать. В те времена, штемпель на сургучную печать имел форму круга, разделенного на две части, в одной из которых указывался месяц буквами, в другой — день отправки письма. Письма штемпелевали на каждой почтовой станции. Как следует из повествования, письмо Дубровский получил в начале лета. Значит оно, вопреки обычаю, шло не неделю, а несколько месяцев. Такая задержка была удивительной.
Причины задержки письма няни.
Возможно письмо проделало немалый путь: отправленное в полк, оно по беспечности товарищей Дубровского было переадресовано на тайную квартиру в Петербурге. Няня знала, что Дубровский служил в гвардейском пехотном полку («Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге»). Находился он там временно или нет, не сказано. Если учесть «Записки молодого человека» (см. ниже), то могло быть и так: письмо писано в Петербург, а Дубровский в начале мая уже отбыл в Васильково, и там получил догнавшее его письмо. В этом случае упомянутая секретная квартира была в Черниговской губернии, где-нибудь в том же Тульчине или в Васильково. Но вероятнее все же Петербург — путешествие из Черниговской губернии до Кистеневки (на Волгу) заняло бы много больше времени. Из текста же ясно, что с простой подорожной добраться в Песочное, где ждали лошади (задержка от почты с известием о приезде барина составила всего три дня), заняло не больше недели. Это как раз расстояние от Петербурга до Нижегородской губернии.
Кто провалил явку?
О первых тайных обществах декабристов написано чрезвычайно много. Как известно, еще до провала декабрьского выступления тайные общества и их члены стали известны властям в течение первых часов расследования в ночь на 14 декабря. Пушкин в нескольких словах показывает, как легко было раскрыть любую их тайну. Декабристы уважали конспирацию, но их мысль не часто нисходила до конкретных дел. Почта и другие дела поручались слугам. А их порой не замечали и бывали откровенны при них. Так что «провалить явку» мог камердинер Гриша, услышавший лишнее. В письме к маме Орине Егоровне он запросто мог указать как обратный адрес: «Петербург, квартира Северного Общества, Дубровскому». Из-за подобных мелочей нередко в истории расстраивались и рушились планы и надежды на перемены.
В пользу версии с Гришей говорит такая деталь. Дубровский просил в Песочном вольных лошадей, но как оказалось, лошади его уже ждали четвертые сутки. Он не надеялся на них, значит не извещал о своем приезде. Прошло уж несколько месяцев от отправки письма Егоровной. Она обещала в письме лошадей и выслала, но кто ее известил о дне отъезда из Петербурга? Больше некому, кроме камердинера Гриши, сына Орины Егоровны. Так что Гриша был с матерью в переписке (через грамотного повара Харитона).
Этот казус с письмом или нечто подобное могло получить известность в узком кругу, и вспоминалось позже как анекдот. Пушкину не нужно было объяснять друзьям этот полунамек, а нам он кажется непонятным и странным.
Как Дубровский заслужил перевод офицером в конную гвардию.
После известия из Кистеневки, Дубровский испросил отпуск — не краткий, на похороны отца, а длительный, возможно, годовой. Это узнаем из его размышлений в дороге: «он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку». Он даже решился выйти «в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия». Длительность полученного отпуска важна для понимания, мог ли Дубровский уклониться от присутствия на Сенатской площади. Так или иначе, получив письмо, отправленное зимой 1824/1825 года, Дубровский пропустил основную часть подготовительных мероприятий к восстанию, осуществлявшихся в течение 1825 года, и потому вероятнее всего не был позже вовлечен в сам мятеж.
После печальных событий (смерть отца) Дубровский покинул родные места. В его прощальных словах, обращенных к дворне: «Ну, прощайте… будьте счастливы с новым вашим господином», — нет и намека на месть Троекурову, желание организовать шайку из дворовых крестьян и жить разбоем. Корнет гвардейского пехотного полка, полный честолюбивых планов, он наверняка отправился в расположение части — источника средств на съем квартиры в Петербурге и другие траты у него больше не было. Путешествие в полк могло занять до полумесяца в распутицу, так что на место службы Дубровский попал в середине октября. Выпав из компании заговорщиков, он либо не участвовал в декабрьском событиях, либо был там на стороне власти, прибыв на Сенатскую площадь по приказу для подавления восстания. Писать о подобном не стал бы тот, кто любит славу, и повествователь (Дубровский) совершенно опускает тему мятежа.
Но мы остановимся на этом подробнее. Дубровский волен был решать: доложить начальству о возвращении из отпуска и приступить к службе или из осторожности пребывать некоторое время в качестве отпускника. Из документов той поры мы знаем, что некоторые офицеры, чтобы избежать преследований, оформили отпуск с помощью покровителей прямо перед восстанием, при этом даже не выезжая с территории части. Весьма вероятно, что Дубровский, отсиделся в казармах. Во всяком случае, он оказался в выигрыше и после попал в кавалергарды либо в егерский гвардейский полк, которые были престижнее пехотных полков.

Как известно, после тщательного расследования и ареста офицеров в конной гвардии образовалось много вакансий. О его новом месте свидетельствовала та самая белая офицерская фуражка — почти неприметная для нас, но очень знаковая в офицерской среде и в окружении Пушкина деталь одежды. Летние фуражные шапки с белым верхом имели по уставу только некоторые части конных гвардейцев. В ней Дубровский появился в сентябре 1828 года на станции перед превращением в Дефоржа.
Массовые перемещения офицеров по различным гвардейским полкам случились после расследования их участия в декабрьском мятеже. Хотя Кавалергардский полк (как и два других конных гвардейских полка) оказался на стороне императора, многие офицеры не проявили должной преданности царю. Они выражали сочувствие мятежникам, не желали их атаковать, явились на площадь едва ли не во фраках и с манежными седлами, поэтому после декабря многие подпали под подозрение, а в последующем следствие выявило причастность гвардейских офицеров к тайным обществам. Егерский полк остался после восстания почти нетронутым — егеря отличались верноподданническим воспитанием и либеральные идеи почти не имели распространения в его офицерской среде; полку благоволил Николай I. Таков же был и кирасирский лейб-гвардии полк, расквартированный в Гатчине, недалеко от Петербурга. Из трех расквартированных рядом с Петербургом конногвардейских полков Кавалергардский полк оказался наиболее прореженным, и потому в качестве нового места службы Дубровского наиболее вероятен.
Дубровский и эволюция дворянства в буржуа.
Пушкину, по-видимому, не столь уж важно, участвовал ли Дубровский непосредственно в восстании и на чьей стороне. Интересен был сам нарождающийся новый класс русского общества, тот круг молодых активных людей, к которому Дубровский, несомненно, принадлежал. Кто они: дворяне на службе империи или буржуа, мечтающие об оборотах? Как они повлияли на судьбу России, что они принесли в жизнь русского общества, какие перемены и какова эволюция их взглядов? Вот фокус, на котором сосредоточился пушкинский творческий гений при написании так называемого «разбойничьего» романа.

Считается, что идею романа Пушкину подсказал его друг Павел Воинович Нащёкин. Возобладавший со временем подход к изучению произведений Пушкина, опирающийся на буквалистское изучение его переписки и воспоминаний современников, нередко мешает пониманию творчества. Это важный инструмент исследования, но не главный. Действительно, Нащёкин рассказал Пушкину про благородного белорусского разбойника Островского, и Пушкин поначалу взял для своего романа героя с такой фамилией. Но как идея развилась и во что превратилась под пером писателя? У Пушкина, как творца, первоначальный толчок — лишь повод взяться за перо. А во что все превратится, он и сам поначалу не знает.
Как ни удивительно, но в жизни самого Павла Нащёкина Пушкин нашел больше интересных подробностей, послуживших фактурой для романа, чем в истории белорусского дворянина Островского. Павел Нащёкин, картежник и дебошир, друг многих декабристов, начал карьеру на девятнадцатом году жизни унтер-офицером Измайловского лейб-гвардии пехотного полка. Затем был переведен в Кавалергардский полк, в марте 1823 года стал поручиком в Кирасирском полку. В ноябре 1823 года он ушел в отставку по домашним обстоятельствам. Пушкин неоднократно бывал в доме друга, оставался у него ночевать, там он запросто мог увидеть его фуражки: белую кирасирскую гвардейскую фуражку, о которой мы упоминали, и зеленую пехотную. После отставки Нащёкин переехал в Москву, десять раз он становился богачом и десять раз разорялся. Таких широких натур много в то время появилось в Петербурге и Москве, неудивительно, что Дубровский, в своей реконструированной нами по мелким приметам биографии, имеет столько общего с реальной жизнью одного из пушкинских друзей.
«Записки молодого человека» — часть замысла будущего романа.
К мятежу 1825 года непосредственное отношение имеет небольшое произведение Пушкина «Записки молодого человека». Оно похоже на неоконченный случайный набросок, не имеющий никакого отношения к другим произведениям Пушкина. Но в свете наших открытий о Дубровском эти записки смотрятся как часть романа, которую Александр Сергеевич не решился встроить в ткань повествования по неведомым нам литературным или вполне понятным цензурным соображениям. Действительно, в записках мы видим молодого офицера, только что закончившего Кадетский корпус и переезжающего в пехотный гвардейский полк в Васильково. Это местечко в Киевской губернии Малороссии прославилось как место дислокации тайного «Южного общества», и где вслед за Сенатской площадью произошел мятеж. Время действия более или менее согласуется с событиями, описанными в романе. Есть мнения, что эта записка навеяна «мемориями» Павла Нащёкина, которые Пушкин просил присылать ему в письмах. В литературном смысле стиль записок — это слог самого Пушкина, кусочек записок использован в «Станционном смотрителе». Исследователь Пушкина А.В. Чичерин был уверен, что это часть замысла будущего романа. А мы догадываемся, что этим романом стал «Дубровский».
Небольшой отрывок:
4 мая 1825г. произведен я в офицеры, 6-го го получил повеление отправиться в полк в местечко Васильков, 9-го выехал из Петербурга.
Давно ли я был еще кадетом? давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на перекладных в местечко Васильков, где буду спать до осьми часов и где уже никогда не молвлю ни единого немецкого слова.
В ушах моих все еще отзывает шум и крики играющих кадетов и однообразное жужжание прилежных учеников…
Про немецкую муштру молодой человек помянул не случайно, это было больной темой в офицерской среде, и желание покончить с неметчиной в армии выставлялось как одна из главных целей организации тайного «Южного общества».

Если «Записки молодого человека», как мы предположили, неиспользованный в окончательной редакции фрагмент романа, то молодой человек — это Дубровский, выпускник кадетского корпуса, отправленный корнетом гвардии в Черниговский пехотный полк. Имеются небольшие нестыковки дат в «Записках» и романе: например, выпуск из Кадетского корпуса корнета Дубровского произошло вероятно в мае 1824 года или 1823 года, а не в мае 1825 года, как указано в «Записках …». Орина Егоровна, отправляя барину письмо в декабре 1824 года, уже знала, что он служит в гвардейской пехоте. Мы выяснили, что Дубровскому в начале лета 1825 года было двадцать лет, следовательно, в 1823 году – восемнадцать. Это вполне укладывается в обычный возраст выпускников кадетских корпусов: от семнадцати до двадцати лет. Возможно, поначалу Пушкин «отправил» Дубровского в Васильково, так как был знаком с «южанами» лучше и бывал у них на заседаниях, но в последующем несколько изменил план романа.
Прототипы Дубровского из декабристов.
Как сложилась жизнь и куда направилась энергия прогрессивных образованных людей, бывших декабристов и всех, кто им сочувствовал после подавления восстания? Пушкин внимательно наблюдал за переменами в обществе, где все большее значение получали деньги. Во Франции, да и в целом по Европе активная молодежь стремилась, как сказал Дефорж, «пуститься в обороты». И в России идеи свободы, равенства и братства постепенно отходили на второй план. Интерес проявить себя сместился в область свободного творчества, буржуазных свобод и предпринимательства. Дворянство активно капитализировало свои имения, закладывая их и получая капитал.
Перемены в обществе не могли не отразиться на героях романа. Мы вновь видим Дубровского в возрасте двадцати трех лет. Его второе появление на станции Песочное недалеко от Покровского и Кистеневки произошло осенью 1828 года, то есть через три года после декабрьского мятежа 1825 года.
Его вид так переменился, что смотритель не сразу узнает, и вспоминает только после намека. Скромный молодой барин Владимир Андреевич, смиренно просивший «вольных лошадей» преобразился в решительного офицера («Чу, так и есть! вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?»), привыкшего раздавать команды («Лошадей, – сказал офицер повелительным голосом») – без всякой там подорожной. И смотритель подает, весьма рискуя. Бравурный вид, офицерская форма, слуга, тройка, чемоданчик, полный ассигнаций – все говорит о довольно благополучной жизни Дубровского в это время.
Легко поддаться обаянию рассказчика и представить бравого офицера, героя. Повествователь, написавший свою историю, заинтересован показать себя в лучшем виде, а о плохом умолчать. Но как ясно станет из дальнейшего исследования, Дубровский не был человеком высокой морали. Он был отчаянным, даже храбрым, но беспринципным. Пушкин знал немало таких среди декабристов. Поручик, поэт Александр Одоевский, например: член Северного Общества, один из руководителей, который накануне восстания призывал товарищей: «Умрём, ах, как славно мы умрём!». Но уже через два дня после подавления восстания и начала следствия сам явился к обер-полицмейстеру Шульгину и попросился допустить его в комитет для разоблачения декабристов. «Дело закипит, — заявлял он. — Я наведу на корень зла. Мне это приятно. Назову даже таких, которых ни Рылеев, ни Бестужев не знают». Это не спасло его от каторги, из которой он писал известный ответ на стихотворение Пушкина «Во глубине Сибирских руд…». Больше всех товарищей назвал один из главных заговорщиков Евгений Оболенский. Страхом, взаимными обвинениями и надеждами на милость государя были полны показания членов тайных обществ. Некоторые, чтобы спастись просили начальство и оформляли задним числом отпуска.


Подобные типажи – объекты исследования Пушкина: люди, казавшихся в глазах общества героями, но явившиеся совсем в другом свете при испытании. Дубровский – их сумма, результат их эволюции, которую Пушкин воочию наблюдал. Каждый из них имел свою историю, выставляющую его в наилучшем свете, и мог написать нечто подобное роману «Дубровский». Нельзя сказать, что они были негодяи – скорее противоречивые фигуры. Некоторые даже в прошлом герои, как князь Волконский, воевавший с Бенкендорфом в тылу против Наполеона, или Беляев, который спас тому же Бенкендорфу жизнь, вынувши его из ледяной воды во время наводнения. Но в этот раз с ними не было правды, и они не устояли, обмякли. Деньги и нужда портят людей, а буржуазные перемены в обществе испортили дворянство, как ржа поедает железо во влажном климате. Пестель участвовал в денежных махинациях, а донос на него написал капитан Майборода, уличенный в краже полковых денег. Таковые не были редки среди декабристов (о солдатах в этом смысле не говорим), напротив, редко встречались искренние, как Александр Булатов. Тот два часа простоял в нескольких шагах от императора с намерением убить его, но сердце ему отказывало, о чем он заявил на личной встрече с Николаем I. Булатов сам пришел к властям и сдал шпагу коменданту, страшно переживал о своем участии в заговоре и испросил у Николая себе смертный приговор. Не получив, писал великому князю Михаилу Павловичу, что сам осудил себя на смерть, отказался от пищи, а затем убил себя, разбив голову о стену камеры.
Репутация Дубровского в свете и гвардейской среде.
Как герои восстания были людьми, полными противоречий, так и плоды их дел. Пушкин любил друзей юности (Кюхельбекер, Пущин, Вольховский и другие), из которых многие участвовали в мятеже, хотя его политические взгляды со временем переменились. Эта перемена взглядов совершенно не коснулась его любови к свободе и к друзьям. Вообще многие бывшие вольнодумцы знали друг друга и были в приятелях, с какой бы стороны не оказались 14-го декабря.
Дубровский, и как автор и как герой своего романа, типичная для той эпохи фигура. Мы догадываемся, что несмотря на молодость, он был известен в определенных кругах. Слова таинственного «генерала», посетившего помещицу Глобову, говорят об этом: «Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Какой-то бродячий офицер, промышляющий посещением вдов и мелким рэкетом вороватых приказчиков, один из тех, по-видимому, кто был уволен со службы после восстания, слышал, что Дубровский был офицер гвардии и порядочный человек. Вполне можно допустить, что Дубровский был личностью известной и уважаемой в гвардейской среде, несмотря на дурные слухи о нем в губернии.
Еще один эпизод. Князь Верейский, сосед Троекурова был «человеком, знающим свет». А вот с местной жизнью губернии он не бы знаком, ибо от роду не бывал в своем имении. Но на третий день после прибытия он из имения отправился в гости и в беседе проявил осведомленность о Дубровском. Проезжая с Троекуровыми погорелую усадьбу, князь спрашивает: «Куда же девался наш Ринальдо? … Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?» Князь надеется заинтересовать Марью Кириловну своими «возможностями» и познакомить ее с «разбойником». Если удастся запросто представить ей предмет воздыханий местных дам, князь вырастет в ее глазах. Он развеет нелепые слухи о Дубровском, превратит его из мифа в реального человека, при этом покажет ей свое положение, круг знакомств (включая молодых и модных офицеров гвардии), свой ум и осведомленность. Нетрудно догадаться, что местные легенды о Дубровском он знал: по Петербургу или услышал от управляющего, отставного майора, пока два дня скучал в Арбатово. Но в разговоре князь не обращает внимания на какие-то там грабежи и поджоги в своем имении, которые приписывают Дубровскому. Ясно, что это был лучший способ для управляющего скрыть недостачи. На реплику Кирила Петровича о набеге Дубровского на имение князя, тот бросил небрежно: «Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил», и тут же назвал Дубровского романтическим героем. Человек образованный, знающий свет, князь явно несклонен верить слухам, будто дворянин Дубровский грабит сараи с целью разжиться сеном и птицей.
Возможно, князь видался и даже сдружился с ним заграницей, куда Дубровский бежал с документами Дефоржа. Судя по виду Дубровского на почтовой станции и его уверенным манерам, он привык быть заметным в высшем свете.
Но вдруг… князь узнает от Троекурова, что с Дубровским красавица знакома, и более того, они тесно общалась. Неужели Дубровский, как актер, превратился из дворянина в учителя, французишку? И что же, он в самом деле ограбил помещика? История рассказана непосредственными свидетелями, но она неправдоподобна. Князь смущается: «Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор». Вежливый человек — ничего не сказал. Верейский заспешил и уехал тотчас после чаю. Ему как будто срочно нужно с кем-то увидеться и получить объяснения, чтобы разрешить сомнения. Вся сцена описана Пушкиным без ясной цели, и как будто на что-то намекает: возможно, на некую связь, на знакомство и даже дружбу Дубровского с князем.
Ясным указанием на их связь оказалась полумаска на лице Дубровского, надетая им при нападении на карету князя. Проницательный современник Пушкина, прочитав роман, мог увидеть, что это есть доказательство их знакомства. Таким полунамеками, еле заметными деталями полна вся проза Пушкина. В светской среде той поры простодушие было не в моде, ценился ум и воображение, умение дорисовать все, начав от пятки под «вдовьим черным покрывалом». Подробнее разберем это позже, а пока сделаем вполне вероятное предположение, что Дубровский просто гостил в Арбатском, как старый приятель Верейского по Петербургу или загранице. Где еще ему было остановиться, как не у князя? Князь единственный во всей округе, кто не видел его на очной ставке в роли Дефоржа. Нелепо даже предполагать, что Дубровский прожил почти год в землянке или отправился из Покровского в Петербург, где его разыскивали. Весьма вероятно, что Дубровский бежал из Покровского заграницу и прибыл назад вместе с князем или несколько позже и гостил у него, так как собственное имение его было сожжено. Его обугленные останки видел Верейский, проезжая мимо. Вот и вероятная причина спешки князя. Он желал объяснений о Дефорже. И такие объяснения он легко мог получить от Дубровского. Но об этом мы расскажем в свое время.
Добавление к психологическому портрету.
В довершение темы добавим несколько мазков к психологическому портрету Дубровского. Этот портрет будет сильно отличаться от того, который нам навязывает сам повествователь.
Мы видим человека с крепкими нервами, быстрой реакцией, расчетливого, способного, как опытный шпион, работать под легендой в чуждой среде. Возможно, сказался опыт его членства в одном из тайных революционных обществ. Он похож на типичного революционера, появившегося в русской истории позже, в конце девятнадцатого, начале двадцатого века. Дубровский использует преимущества своего положения для получения нужных сведений о всех и о всем, что может пригодиться.
В роли француза Дефоржа, якобы не говорящего по-русски, он преспокойно сидит на обеде с воспитанником Сашей, узнает все местные слухи о мифическом разбойнике Дубровском и то немногое, что есть у следствия о реальном Дубровском (то есть ничего, кроме русых волос и возраста), а также о том, что исправник порядочный плут, берущий взятки и готовый прикрывать за деньги хоть черта, в чем сам со смущением признался пред всеми. Все это помогло Дубровскому решиться на ограбление Спицына, а позже подкупить исправника. Он точно знал время приезда полицейского в Покровское, все рассчитал поминутно и устроил свидание с Марьей так, чтобы у нее не осталось времени на размышления. Исправник прибыл схватить Дефоржа, он был вооружен до зубов и отвечал на вопросы «с видом таинственным и суетливым», что выдавало в этом простаке чувство вины за получение взятки.
Что еще добавить к портрету? Дубровский невозмутим и с легкостью просчитывает реакции: ограбленный Спицын, пришедший на завтрак, будет молчать. Дубровский был абсолютно уверен в нем и сидел «как ни в чем не бывало». Он видел Антона Пафнутьича насквозь. Из кго объяснений опоздания на обед Дубровский понял, что Спицын трус, да к тому же с полной сумкой денег под рубашкой.

К искушению поживиться и обокрасть Спицына добавлялось и еще одно обстоятельство, о котором Дубровский услышал за обедом. Спицын участвовал в беззаконном отъеме имения отца. Дубровский все хотел сделать тихо, пока Спицын спал. Но на случай, если все откроется, грабеж сочли бы местью, а не постыдным обогащением. Это не могло испортить имидж благородного мстителя в глазах Маши и расстроить большие планы на приданное. Для самого Дубровского, перерождающегося в буржуа дворянина, мщение обидчикам отца не имело никакого практического значения и было ему неинтересно – оно не давала ему ни свободы, ни денег.
Если Дубровский служил в гвардии, то кто же тогда был главарем шайки разбойников?
Попробуем разобраться. В романе достаточно сведений, проливающих свет на этот вопрос.
Спорадические грабежи и кражи покровскими крестьянами
Спорадические и незначительные грабежи были в то время обычны в провинции. После ссоры Андрея Гавриловича с Кирилой Петровичем покровские крестьяне решили покрасть лес Дубровских. «Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином». И еще: «Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее до тла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину». Троекуровские крестьяне и сами грабили «зарвавшихся» помещиков, а с появлением слухов о Дубровском это стало еще легче — все списывалось на него.
Грабежи от бедности кистеневскими погорельцами.
Грабили и бывшие крепостные Дубровских: то скотины несколько голов угонят, то сарай сожгут, то проезжий экипаж остановят (рядом проходил почтовый тракт). Вообще, с постепенным развитием товарного рынка в первой половине 19-го века, участниками которого являлись помещики, часть необходимых в хозяйстве товаров покупали за деньги, вырученные в том числе и от экспорта. А вот мелкие сделки, которые проводили сами крестьяне, имели чаще всего форму неденежного обмена. Крестьянам без помещика или его управляющего невозможно было приобрести некоторый инвентарь, скобяные изделия, ткани и другие товары, которые продавались в городе за деньги. Кроме того, без барина все хозяйство постепенно приходило в упадок. Покровские же могли и землицу прихватить под сев и рощу слегка попользовать на лес и дрова, так что кистеневским и на пропитание со временем стало не хватать. Приходилось необходимое добирать грабежом в отсутствие «кормильца», как часто называли крестьяне помещика. Разбойничали больше от нужды – вот и причина всплеска грабежей, которые еще многократно приумножались слухами.
Вот краткий и меткий образ одного из грабителей, обитавших в лесу, наводивших ужас и грабивших барские дома и экипажи по всей губернии: «Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку». Член «банды» орудовал иголкой, как «опытный портной». Остальные его собратья, «разжившиеся» за счет губернских толстосумов, были столь же нищие крестьяне.
Все в губернии знали, что разбойники обитают в кистеневской роще, но никто не осмеливался там наводить порядок. Роща и все имение Дубровских с некоторых пор принадлежало Троекурову, а его боялись. Да и не дал бы Троекуров никому орудовать в своих землях. С чего бы? Самого генерала грабежи не затронули, а коснулись бы, так он сам в миг бы разобрался. Местные же предпочитали дать крюк, как Антон Пафнутьич, но объехать воровскую рощу. Не было у ужасных разбойников ни резиденций, ни тайных и многочисленных воровских притонов, где они бы гуляли, прятались, продавали награбленное. Да и сама роща – это пристанище не разбойников, а погорельцев. Крестьяне переехали в рощу и нарыли землянки после пожара, спалившего всю деревню – не только барский дом.
Итак, периодически грабежи случались по местам сами собой, безо всякого пришлого «Ринальдо». Их всплеск после пожара в Кистеневке удобно было относить на Дубровского, давая пищу сплетням и застольным пересудам.
Таким образом получает объяснение странный факт, которому вся губерния дивилась: единственное имение, которое не подвергалась набегам банды Дубровского, было Покровское. Разбойники ни разу не тронули «ни единого сарая, не остановили ни одного воза» в Покровском. Неприкосновенность Троекурова, непонятная соседям и ему, но приятная, так как давала повод тщеславиться, объяснялась прозаически просто: кистеневцы и покровские были друг у друга кумовьями, вместе справляли праздники, ходили в церковь. Если раньше втихаря и потравливали луг или крали пару деревьев из леса, то последнее время даже и на эти мелкие шалости в отношении троекуровских дубровские не решались, лишившись защитника в лице барина. Грабежи же совершали по нужде, а не из мести, как могло быть, если бы ими верховодил Дубровский.
Кирила Петрович этим бахвалился, представляя всем, что разбойники его побаиваются. Никто, конечно, не верил – неужели отважный Дубровский боится Троекурова? Всем казалось, что Дубровский должен в первую очередь грабить обидчика отца. Этот «непонятное уважение» Дубровского к Троекурову выбивалось из красивой легенды. Все ждали, что получит свое и Троекуров, но со временем все вынуждены были признать странный факт, не имевший, казалось, объяснения. Они могли догадаться, что никакого Дубровского-разбойника не существует. Он – выдумка. Но что тогда рассказывали бы друг другу помещики за обедами и скучающие барышни за рукоделием?
Обратите внимание, что Дубровский, «написавший» роман о своих геройствах и большой любви, не умалчивает об этом действительно странном факте. Почему? Разве это не работает против него, против его легенды? Дубровскому так не кажется — он все объясняет. Признаваясь Марье Кириловне в любви, он говорит:
Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пересечь ему все пути к бегству – в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства
Конечно, читателям легче думать о Дубровском так, как хочется повествователю, то есть самому Дубровскому. Но мы покажем позднее, что сказанное им — явная ложь: расчетливого Дубровского месть не интересовала. Дубровскому, как автору повести о разбойнике, не удается причесать ее до конца. Мы замечаем, как он все время представляет публике благовидные мотивы своих неблаговидных поступков. Постепенно нам открывается все, что лежит под покрывалом его красивой сказки.

Продолжим. Кроме разбойничьей рощи губернию пугали несколько троек лошадей, которые носились по дорогам и наводили ужас, жгли помещичьи дома, «грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим». Если эти известия, упомянутые сразу за пожаром и гибелью судейских в имении Дубровских, не были непомерно раздуты слухами, то следует признать, что кое-кто из наиболее отчаянных кистеневцев, вроде кучера Антона и кузнеца Архипа, могли пуститься в более серьезные дела, и сбиться в разбойничьи шайки. Но еще ближе к истине версия, слишком опасная для опального Пушкина, чтобы он мог намекнуть на нее чуть сильнее. Эти шайки по всей России могли появиться после случившегося в те же дни мятежа на Сенатской площади бежавшими от преследования или уволенными и оставшимися без жалования солдатами, и офицерами гвардии. Так всегда происходит, когда военным людям не оставляют возможности жить достойно, служа родине. Пусть вскользь, но Пушкин затрагивает тему российского бунта и его истоков. В этом смысле роман «Дубровский» стоит в одном ряду с «Борисом Годуновым» и «Капитанской дочкой».
Итак, если и был у разбойников опытный в военных делах атаман, то это был не Дубровский. Двадцатилетний Владимир был еще слишком молод и не столь решителен, и даже иногда застенчив. Максимум, на что он был способен, ясно из его слов в самый момент его душевной скорби и отчаянной ярости:
Завтра должен я буду оставить дом, где я родился […] Нет! Нет! Пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня
Здесь нет ни жажды убийства, ни иной мести, а лишь бессильная злость и обида на всесильного соседа.
Вот еще одно свидетельство против атаманства Дубровского. Владимир в 1928 году в сентябре поселился в доме Троекуровых.
Прошло около месяца… Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей…
Так или иначе, ущерб для губернии от разбойников был не столь велик и с лихвой покрывался удовольствием от сплетен. Да и всеобщая любовь к главарю шайки вряд ли была возможна, если бы он сколь-нибудь значительно потрепал кошельки местной знати.
Когда же власти всерьез занялись борьбой? Ограбление Спицына не произвело впечатление. Они отреагировали бутафорным приездом вооруженного до зубов исправника в Покровское. Затем все затихло на год. Первый эпизод, повлекший действительно серьезные последствия — нападение нескольких разбойников во главе с Дубровским на коляску князя и княгини, возвращавшихся после венчания. Власти послали отряд солдат, и раненый Дубровский с крестьянами оказали сопротивление. Несколько солдат и офицер были убиты. Это второе событие. «Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского». Два реальных эпизода и были основанием серьезно отнестись к слухам, которые более четырех лет развлекали две губернии.
Первое «дело» Дубровского.
Еще раз вернемся к ограблению помещика Спицына. Оно как будто в пользу разбойничье версии романа. Но это на первый взгляд. Дубровский, как сказано, не справился с искушением. В чем же искушение, если это привычное дело — ограбить помещика? Очевидно, для Дубровского это дело было первым, и он колебался. Он хотел все сделать незаметно, и остаться Дефоржем, но был раскрыт внезапно проснувшимся Антоном Пафнутьичем. Это также был первый случай, когда жертва обратилась в полицию, указав на Дубровского как реального преступника. До этого приметы Дубровского были известны исправнику только со слов крестьян и в самом общем виде: «лицом чист, бороду бреет, волосы русые, нос прямой». Теперь его знали все в лицо. Пришлось бежать заграницу.
Мы упомянули про уволенных после неудавшегося мятежа офицеров, потерявших источники средств к существованию. Некоторые из них воспользовались славой Дубровского для прокорма и пробавлялись, запугивая вороватых приказчиков и столуясь у офицерских вдов. Но они были скорее из породы «великих комбинаторов», чем разбойников. О таком персонаже мы узнаем от помещицы Глобовой. Из той же истории видно, что немалая часть «замечательных грабежей» приходится на долю нечистых на руку управляющих, списывавших украденное на Дубровского.
Появление на сцене «великого комбинатора».
История, рассказанная помещицей Глобовой, просто замечательная. Она прямо из российской жизни с их неповторимыми типажами: вороватыми приказчиками и находчивыми пройдохами. Анна Савишна отправила с приказчиком своему отпрыску, офицеру гвардии, на содержание 2000 рублей. Вечером приказчик возвращается ободранный и без денег с рассказом, что ограблен самим Дубровским, но не повешен по милости последнего. Через пару недель приехал к барыне генерал, в усах и бороде, представился другом покойного мужа. За угощением, как водится, разговорились о Дубровском. Генерал, узнав горе хозяйки, нахмурился и вступился за честь Дубровского: «Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста». Хозяйка отдала приказчика в руки генерала, деньги быстро нашлись. Те ли были деньги или украденные раньше — не важно. «Генерал» отобедал и увез с собой приказчика, которого нашли на следующий день «привязанного к дубу и ободранного как липку».
Здесь в кратчайшем сюжете целая комедия, рассказанная с тонким юмором. «Великий комбинатор» явился к помещице Глобовой за бесплатными харчами, рассчитывая расплатиться байками о мужской дружбе и военной службе. Быстро сообразив в чем дело, он совершенно «законно», под покровительством хозяйки, занялся в ближнем лесу опустошением мошны хитрого приказчика, нисколько не опасаясь преследования властей. Его легенде про «сослуживца покойного мужа» офицерская вдова и мать офицера не поверила. Чутье ее не подвело, так или иначе она разглядела, что генерал ненастоящий. Ей показалось, что он больше похож на разбойника. А кто в губернии разбойник, да еще добрый? Конечно, Дубровский!
В общем, Дубровский был нужен и выгоден буквально всем.
Очная ставка.
Уж совсем весело Пушкин смеется над провинциальным сериалом о благородном атамане в эпической сцене праздника в Покровском, на который собралась почти вся знать губернии. Кирила Петрович заводит за столом любимую тему: «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?» Вот уж три года, как во время застолий главным блюдом подается та или иная история о встрече с Дубровским.
Дубровский оказался на празднике Покрова на виду всего местного общества. Троекуров представил его гостям, как француза Дефоржа и храбреца, убившего медведя, и все обратили на него пристальное внимание. Женщины в восторге, гости с изумлением посматривают на него, вечером он танцует больше всех, между всеми отличается, барышни выбирают его – он звезда программы.
Итак, на празднике у Троекурова его видели все почтенные, состоятельные и не очень, люди двух соседних губерний. «Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви, и стояли на паперти и в ограде». Стол был накрыт на 80 приборов. А ведь эта сцена – очная ставка! Александр Сергеевич, ничего не скажешь, любил красивые художественные решения. Свидетелями для опознания приглашены все те, кто мог пострадать от Дубровского, будь он разбойником. И преступник никем не узнан! Что это значит? Что ни в одном грабеже Дубровский не участвовал. Поэтому Дубровский и сам спокоен, не боится случайно встретить среди гостей жертву – он то точно знает, что никого не грабил.
Кто-то из читателей скажет, что Дубровский грабил в маске, и потому не был узнан. Ответим: нет, Дубровский в местном фольклоре выступал всегда с открытым лицом. Помещица Глобова, к примеру, поведала, что Дубровский явился к ней в генеральском мундире с бородой и усами. Никто из гостей не воскликнул: «Как? разве он был без маски? Вы видели его лицо?». И станционный смотритель, выдавая Дубровскому лошадей, не удивился, что он совершенно открыто разъезжает по тракту и не прячет лица. Супруга его очень хотела увидеть Дубровского, но не успела, как следует, разглядеть, досадовала и ругала мужа. Она, конечно, знала все сплетни о грабежах в подробностях, но и ей не пришло в голову: что это Дубровский без маски? Из рассказа приказчика помещицы Глобовой, пусть и придуманного, видно, что Дубровский и от него не прятал лица. Нигде мы не находим, чтобы было обычным для Дубровского, или лучше сказать Лжедубровского, грабить в маске. Дубровский бесстрашен, никого не боится и ни от кого не скрывается – вот общее о нем мнение.
Сила мифа и общественного мнения.
О великая, завораживающая, гипнотическая сила общественного мнения, сила, творящая мифы! Она способна совершенно лишить зрения, превращает черное в белое и наоборот. Она создает героев из простого желания развеять скуку, она открывает ворота крепостей, низвергает царей, зажигает костры. Пушкин удивлялся ее всемогуществу в «Борисе Годунове»:
Басманов
Пока стою за юного царя,
Дотоле он престола не оставит;
Полков у нас довольно, слава богу!
Победою я их одушевлю,
А вы, кого против меня пошлете?
Не казака ль Карелу? али Мнишка?
Да много ль вас, всего-то восемь тысяч.
Пушкин
Ошибся ты: и тех не наберешь —
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только селы грабят,
Что поляки лишь хвастают да пьют,
А русские… да что и говорить…
Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?
Ты видел сам, охотно ль ваши рати
Сражались с ним; когда же? при Борисе!
А нынче ль?.. Нет, Басманов, поздно спорить
И раздувать холодный пепел брани:
Со всем твоим умом и твердой волей
Не устоишь …
Сила мифа в материальном мире больше силы пушек. Творение мифов и героев было главным свойством коллективного сознания во все времена. В «Портрете Дориана Грея» Оскара Уальда эту мысль выразил художник Бэзил Холлуорд: «В истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа». И это очень глубокая мысль. Вдумайтесь! В истории человечества… Человечество движется только вслед своих кумиров, новых героев, а иногда и бывших, образ которых искусство оживило новыми красками, новыми средствами. Создай новый образ, идеал, вдохни в него жизнь, и человечество пойдет в указанную им сторону.
«Дубровский» — это помимо прочего пушкинская онтология мифа.
Трезво размыслив, любой читатель придет к единственному верному заключению: Дубровский был мифическим героем, вернее – героем мифов! И если бы Дубровский вошел в зал и запел марсельезу, думается, половина, если не все женское общество стало бы восторженно подпевать, а мужчины притопывать или прихлопывать в такт. Ничем от легенды о Дубровском не отличается легенда о более историческом герое Пугачеве. Пушкин в «Капитанской дочке» смотрит на него с таким же удивлением, усмешкой и страхом одновременно. Пугачев оказался таким же мифом в коллективном сознании, живущим вне человека из плоти и крови и питающимся энергией народного мнения, как Дубровский. В двадцатом веке эту силу общественного мнения рассмотрели и поставили на службу.
Когда и кто объявил в розыск Дубровского?
Попытаемся ответить на простой вопрос: с каких пор Дубровского разыскивали власти? Это важно, чтобы потом понять, по какому обвинению.
Общепринятая версия.
В логике разбойничьего романа ответ очевиден – после поджога, по подозрению в убийстве приказных, погибших при пожаре, и как главу разбойничьей шайки. Мы знаем, что «Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие», потом послал подробное донесение губернатору, и дело завязалось. Но на уровне губернии оно не продвигалось, так что Кирила Петрович при каждой вести о грабительстве «рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо».
Что происходило на самом деле в свете уже озвученной «декабрьской» версии и трехлетнего перерыва, посвященного службе Дубровского в столице? Мы уже не раз упоминали про эти три года, покрытые молчанием.
Трехлетнее отсутствие, использование мифа о разбойнике, источник осведомленности.
Посмотрим, как описано его появление после трех лет отсутствия: «Чу, так и есть! Вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?» — смотрит в окно и восклицает смотритель. «Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и белой фуражке вошел к смотрителю […]- Лошадей, — сказал офицер повелительным голосом». Дубровский спешит и явно выражает нетерпение: ожидая смены тройки «стал расхаживать взад и вперед по комнате». Требуя лошадей, он ведет себя привычно, как и подобает офицеру, часто перемещавшемуся по делам службы. Но на требование подорожной, словно сбивается, вспоминает, что на сей раз он частным порядком: «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону…» и понимает, что эти объяснения не годятся. Что же делать? Находчивый ум подсказывает обратиться к репутации, которая странным образом сложилась среди жаждущих романтики провинциалов: «Разве ты меня не узнаешь?». Дубровский сильно изменился, но смотритель тотчас вспомнил барина, о котором ходили теперь такие толки по всей губернии. Догадка Дубровского сработала, «смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков».
Дубровский использовал репутацию еще раз, спустя несколько минут в разговоре с французом:
– Но мои бумаги, что мне делать без них.
– В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят, и дадут нужные свидетельства
Защитники «разбойничьей» версии зададут вопрос: «Как же Дубровский узнал о своей репутации в губернии, если его там не было три года? Одни противоречия…». Действительно, кистеневцы в лесу, Гриша после пожара пропал, и единственная ниточка связи с местными прервалась.
Ответ найти нетрудно. Немало молодых дворян из глубинки служило в Петербурге. В романе упомянут сын помещицы Глобовой Иван, служивший офицером гвардии. Были и другие. Новости из губернии от пап и мам быстро попадали в столицу и, конечно, служили поводом для шуток и веселья. Гвардейские офицеры знали друг друга. Легко представить, как они забавлялись, по-дружески называя Дубровского Ринальдо. Все понимали, что Дубровский не мог быть в двух местах. Не удивительно, если и князь Верейский слышал о Дубровском, гвардейском офицере, который подпалив в отчаянье имение, потом неожиданно для себя стал героем легенд.
Ход следствия, новое дело в 1828 году.
После этого краткого отступления мы, наконец, можем восстановить ход следствия. Скорее всего осенью 1825 года после гибели судейских не были совершены необходимые в таких случаях процедуры по розыску, власти не имели ни примет Дубровского, ни свидетельских показаний. «Главным если не единственным виновником пожара» признан кузнец Архип, который пропал. Дело, похоже, совершенно заглохло, перешло в область исключительно слухов и официально перестало кого-либо интересовать. Дубровский спокойно служил в столице, его никто не трогал.
И только года через три неожиданно произошли резкие перемены в деле Дубровского.
Действительно, в год поджога имения Дубровскому было 20 лет. Это мы знаем из его воспоминаний по дороге в Кистеневку: он «был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста» и после того «двенадцать лет не видал своей родины». На обеде в праздник Покрова в доме Троекурова исправник зачитал «приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей». В бумаге было написано, что от роду ему 23 года, что подтвердил и Кирила Петрович. Но это означает, что показания взяты через три года после тех трагических событий и никак не могли быть в связи с ними! Что же заставило власти шевелиться и начать расследование спустя столько лет, да еще проводить допрос бывших дворовых Дубровского в самом логове этих разбойников? Из местных реалий это выглядит совершенно необъяснимо. Как видим из бесед на праздник в доме генерала, где собралась вся образованная и благородная публика, никаких особенных происшествий в губернии в связи с Дубровским давно не было: на всех едва нашлась одна история Глобовой, да и та больше похожа на анекдот. Потому неизбежно приходим к выводу, что розыск и новое дело могли быть спущены из Петербурга, и не раньше 1828 года.
А пока примем за основу версию о том, что дело Дубровского было открыто в столице и постараемся поточнее определить время, когда он был объявлен в розыск. Для этого сделаем небольшое отступление.
Отступление о дне рождения Дубровского.
Для современного читателя имя Владимир самое обыкновенное. Но до второй половины XIX века оно было редким, почти не встречалось. Это имя изначально языческое, а церковь столетиями боролась за то, чтобы младенцев нарекали именами христианскими. Только со второй половины века среди дворянства появилась мода называть сыновей именами древнерусских правителей. Необычное тогда имя сына характеризовало Андрея Гавриловича как весьма ершистого и своеобразного человека, который смог настоять на своем. Обычно имя давал сам священник, выбирая из святочного календаря имя святого, день памяти которого приходился на крещение младенца. По уже указанным причинам в святках 19 века могло быть только имя князя Владимира равноапостольного, память которого приходится на 15 июля (ст.с.). Если день крещения младенца не совпал бы в точности с этой датой, то даже при большом желании отца священник дал бы другое имя, более «христианское». Крестили младенцев в возрасте до месяца, но обычно на восьмой день, так что дата рождения Владимира Дубровского попадает на середину июня – первую декаду июля 1805 года, но скорее всего он родился 7 июля.
Можно не сомневаться, что читатели Пушкина обратили внимание и на редкое имя, и на даты. В России все события, так или иначе, относили к православным праздникам: родился на Покров, умер в Миколин день, венчались в Татьянин день, начинали сенокос в Петров день и т.д. И сам Пушкин не был невнимательным к церковному календарю, и некоторые события в романе по обычаю того времени упомянуты в связи с праздниками.
Объявление в розыск Дубровского могло случиться не раньше начала сентября 1828 года после ревизской сказки крестьян Кистеневки и не было связано с разбоями в предшествующие три года.
23 года Владимиру исполнилось в середине лета 1828 года, а уже к 1 октября у исправника на руках была бумага с ревизской сказкой крестьян. Если бы показания сказки о бывшем владельце были сделаны раньше лета 1828 года, то и возраст Дубровского был бы указан 22 года. Тогда перед гостями Троекурова, он бы непременно отметил, что Дубровский теперь на год старше, чем значится в бумаге. Но и он, и Кирила Петрович настаивают на возрасте 23 года. Первый раз за столом, когда Кирила Петрович еще до исправника сказал: «Я помню его ребенком […] ему не тридцать пять, а около двадцати трех», и исправник подтвердил: «Точно так, ваше превосходительство, у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год». Еще один раз Кирила Петрович сам зачитал бумагу с приметами, когда исправник приехал арестовать Дефоржа: «Покажи мне твои хваленые приметы. Гм, гм, двадцать три года…». Возраст было единственное, что он озвучил. Трудно поверить, что Пушкин, весьма скупой на пространные речи, тем более на повторы, такое внимание уделил возрасту Дубровского случайно.
Почему данные сказки оказалась у исправника, да еще с приметами бывшего хозяина? Некоторые мелкие детали подтверждают, что случилось нечто важное в деле Дубровского и еще более точно указывают на критическую для Дубровского дату.
Станционный смотритель в Песочном не сразу узнал в бравом офицере того молодого застенчивого барина, который три года назад приехал к больному отцу. Но Дубровский напомнил: «Разве ты меня не узнаешь?» Смотритель его вспомнил, и «когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский». О розыске власти сообщали прежде всего на перегонные станции, а за недоносительство полагалась тюрьма. Но как беспечна жена смотрителя и он сам!
Смотрительница опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа: — Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный
Пахомовна ждет, что он еще когда-нибудь завернет, и нисколько не заботится, чтобы муж сообщил властям. Из всего ясно, что станционный смотритель не имел тогда бумаги на розыск Дубровского.
Дубровский прибыл в Дом Троекуровых сразу со станции и до праздника Покрова 1 октября пробыл там три недели. Через несколько дней после праздника он признается Маше: «Эти три недели были для меня днями счастья». Значит, на станции он был не ранее первой декады сентября 1828 года.
Итак, вот что имеем. До приезда в Песочное, Дубровский в розыске не значился. Официально губернские власти не могли обвинить его в разбое на основании слухов, а столичные власти вообще не интересовались мелкими грабежами в провинции и обратили внимание на беспорядки в губернии только зимой 1829/1830 года, когда они приобрели другой размах. Дубровский служил в эти годы в престижном столичном конном гвардейском полку и имел отличное алиби, так как вряд ли мог совмещать службу с набегами на помещичьи усадьбы в тысяче верст от Петербурга. Следовательно, до определенного времени Дубровский ни от кого не прятался и мог спокойно разъезжать по почтовому тракту на перекладных. Но что-то крайне важное заставило его оставить столицу, потратить деньги на документы и скрыться от всех под личиной француза Дефоржа в сентябре 1828 года. Разбойником же, и более того, благородным разбойником, считало Дубровского губернское общество с конца 1825 года, причем в основном его прекрасная половина и, вдобавок, небескорыстно – телевизии не было, а разбавлять пресные ужины чем-то острым было нужно. Вот и забавлялись разбойничьими историями по вечерам.
Что побудило Дубровского через несколько лет спешно прибыть в Песочное? Если Дубровский не атаман разбойников, то откуда у Дубровского деньги в чемоданчике?
Наконец, мы можем приступить к выяснению причин, побудивших Дубровского столь стремительно явиться на станции в Песочном. Пушкин уделил этому эпизоду целую главу XI.
Где Дубровский взял чемоданчик с ассигнациями?
И самое время вспомнить о чемоданчике с ассигнациями. Вот, что написано: «… молодой человек в военной шинели и белой фуражке вошел к смотрителю, — вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко […]- десять тысяч я могу вам дать […] Он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций».
Разве знаменитый разбойник не должен иметь большой чемодан, в котором он хранит отнятые у злодеев богатства, чтобы пустить их в будущем на благородные дела? Обывателю кажется это несомненным. Повествователь забрасывает наживку, и воспитанный на французских романах читатель или читательница тут же схватывает ее и проглатывает без всякого рассуждения и уже не сомневается, рисуя в уме образ русского Робин Гуда. Как это в духе незатейливой романтической прозы той эпохи: скромный неприметный дворянин, попав в жестокие обстоятельства и испытав несправедливость, показывает твердость духа, преображается в воина, обретает опыт в сражениях! Деньги сами плывут ему в руки, но они для него только средство, чтобы достичь цели и наказать негодяев. Или так: один из борцов за свободу, член офицерского братства после поражения восстания не покоряется и с риском для жизни отстаивает справедливость. Так выглядит роман в «разбойничьем» прочтении.
Но в жизни все иначе. В очередной раз убеждаемся, что Дубровский не был разбойником, а стал им позже, когда ограбил помещика Спицына. Даже если бы он и был таковым до приезда в Песочное, то остался бы бессребреником. Иное было бы фантазией и романтической историей. Чемоданчик с ассигнациями грабежом помещичьих дворов и конюшен не собрать и за всю жизнь. Пушкин это знает, поглядывает на нас из-за спины повествователя (Дубровского) и весело подмигивает. Если мы читаем роман как историю поколения, сформированного «декабрём», и разбираем оставленные в тексте намеки, то обязательно находим всему разумные объяснения.
Итак, где безземельный дворянин и бедный офицер мог взять полную шкатулку ассигнаций?
Мы уже отмечали, что в те годы произошли драматические перемены в жизни общества. Те времена были схожи с нашими бурными историями сколачивания капиталов и разорениями. Примеры у Пушкина были перед глазами. Его друг Павел Нащекин много раз становился богатым и столько же раз все пускал на ветер. Он то в карты выигрывал, то получал наследство, то пускался в рискованные предприятия.
Что же Дубровский? У Дубровского наследства не осталось. Возможно, выигрыш в карты? Но тогда зачем стремглав нестись, словно наутек, в свой медвежий угол, тратиться на документы француза? Нет, неправдоподобно.
Заклад имений. Личный опыт Пушкина с имением Кистинево.
Для нас на расстоянии почти двухсот лет многие вещи кажутся слишком непонятными, но не так для современников писателя. Образ мечущегося щеголя, получившего баснословные деньги и не знающего, куда спрятаться от розыска, наверняка, был на виду многих в ту пору первоначального накопления капитала. В обиход повсеместно входила практика «капитализации» недвижимого имущества, продажа, залог и перезалог имений с крестьянами становились модным делом, о чем не раз писал Пушкин (например, в «Барышне-крестьянке»). Развивались буржуазные отношения, появились банки, возник легкий способ брать кредиты под залог. Всего за пару десятков лет к 1845 году доля заложенных имений увеличилась с 5% до 65%. Обсуждались разорения бывших помещиков, прожигающих жизнь в Петербурге на вырученные от залога крестьян деньги, на слуху были новые разбогатевшие на удачных операциях русские и т.д. Это была эпоха накопления капитала, со всеми ее характерными чертами, которые и мы теперь знаем, так как она не раз повторялась в России.
Кроме прочего, Пушкину тема была совершенно знакома из собственного опыта.
Деревенька небогатых дворян Дубровских Кистеневка располагалась недалеко от Волги. В 30 верстах от нее и села Покровского на берегу великой русской реки располагалось имение князя Верейского Арбатово. Примерно в тех же местах, в окрестностях пушкинского имения Болдино, располагалось сельцо Кистенево с 200 душами крепостных, которое досталось Александру Сергеевичу Пушкину в наследство. Для оформления управления имением Пушкин дважды ездил в уездный суд г. Сергачева, где натерпелся в связи с разделом имения. Отсюда, как видно, знакомство Пушкина с юридической казуистикой того времени, свидетельством чего и является выписка из определения суда, приведенная в начале романа с такой припиской: «Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коим на Руси можем мы лишиться имения…».
«Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха» (Н.В. Гоголь. Мертвые души).
Кроме как на заклад такое захолустное владение ни на что не годилось. Почему идея заложить Кистеневку не могла прийти в голову Дубровскому? Порядок денег, как видим схож с тем, что имел Дубровский. И похожесть названий деревень вряд ли случайна. Друзья не раз, как видно, слышали от Пушкина про это Кистенево и его хлопоты с залогом, а потом перезалогом в опекунском совете. Слова «залог» и «Кистенево» в жизни Пушкина сцепились намертво. Кистеневка Дубровского одним своим названием вызывала у пушкинского круга эту ассоциацию с залогом.
Пушкин был мастером сказать много, упомянув чуть приметный факт. Как мы помним, по решению суда деревня Кистеневка и окрестности перешли в собственность Троекурова, поэтому, формально, Дубровский не мог распоряжаться имением. Но в те времена в банк закладывалось не имение, а прикрепленные крестьяне, имена которых содержались в ведомостях. Раз в несколько лет проводились ревизии этих ведомостей (ревизских сказок) и туда вносились новые владельцы. Поэтому в промежутке между ревизиями старый владелец мог заложить в банк или в опеку, уже проданную (или отобранную по суду) землю вместе с крестьянами и, если повезет, успеть выкупить ее до следующей ревизии, не попавшись на мошенничестве.
Дубровский, как сказано в начале романа, не боялся «входить в долги». Он был достаточно авантюрного склада человек, чтобы поучаствовать в такой рискованной игре в надежде в последующем расплатиться, получив солидный выигрыш или «предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости». Со стороны же моральной Дубровский был оправдан в собственных глазах тем, что имение было отобрано у отца разбойническим образом, нечестно. Немного другой, но очень похожий вариант «честного мошенничества» с залогом крестьян по старой ревизской сказке был опробован Чичиковым в «Мертвых душах» Гоголя, сюжет которых был, как известно, подсказан Гоголю Пушкиным.
Проведение ревизской сказки в Кистеневке и раскрытие мошенничества.
А теперь достанем тот самый малоприметный факт, который открывает суть дела: «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей… От роду 23 года…». Итак, прямо указано, что ревизская сказка бывших дворовых людей Дубровского состоялась, когда ему было двадцать три года, то есть в том самом 1828 году летом (после 7 июля, дня рождения, когда Дубровскому исполнилось 23 года) или ближе к осени (не позднее 1 октября 1828, когда и зачитывались исправником приметы). Это как раз то время, когда Дубровский в такой спешке приехал в Песочное (за три недели до Покрова, то есть в начале сентября). Здесь важна каждое слово: «бывших его дворовых людей». Это та самая сказка, когда записывался новый хозяин крестьян.
Списки заложенных имений время от времени публиковались в газетах, чтобы невозможно было их перезаложить. Дело о мошенничестве могло возникнуть, когда новые реестры с настоящим владельцем Кистеневки попали к кредитору, или это стало известно из публикации. Также вероятно, что в ходе ревизии залоговый документ от Дубровского и решение суда трехлетней давности в пользу Троекурова вошли в противоречие. Могло быть и так: Дубровский мог знать о предстоящей после выдачи кредита ревизской сказке и спешил скрыться до обнаружения мошенничества. В любом случае, у Дубровского загорелась земля под ногами. Он помчался с деньгами, куда глаза глядят, подальше от столицы, чтобы только спрятаться и отсидеться. Где? Верные крестьяне помогут — в лесу в имении или где-либо еще.
Приказ о его розыске мог с фельдъегерем нестись за ним по пятам. Дубровский напряжен и присматривается к каждой незнакомой фигуре. На станции он нервно ходил взад и вперед, пока не «зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий». Такой решительный и громкий сначала, вдруг тихо спрашивает. Так бывает, когда ждут опасности от любого, приехавшего из столицы.
Дефорж оказался подарком судьбы. Мысль купить себе новое имя и облик, поработать учителем в самом безопасном месте губернии, а затем перебраться заграницу с паспортом иностранца показалась Дубровскому привлекательной, и он сразу осуществил ее.
Итак, чемоданчик с ассигнациями, из которого Дубровский отсчитал десять тысяч рублей для расчета с французом, вполне объясняется не легендарными, а вполне прозаическими причинами.
Ясно, что Дубровский в своем повествовании не мог рассказать нам об настоящем источнике денег. Это подпортило бы репутацию благородного разбойника. Повествователь оставил все без объяснений в уверенности, что читатель все «правильно» додумает сам.
Дополнительные косвенные доказательства того, что причины бегства Дубровского и превращение в Дефоржа связаны с залогом имения и связанной с этим ревизской сказкой.
Итак, картина полностью ясна. Но нам хотелось показать, что у Пушкина проза строится на материале реальной жизни, и поэтому она обладает интересным качеством полноты: восстановить ход событий мы можем по многим косвенным признакам.
Возьмем, к примеру, эпизод, когда «связной» Митя попался в саду. Троекуров хотел высечь крепостного мальчишку, чтобы узнать, где Дубровский и сразу отправить за ним солдат. Вызвали исправника. Но прибывший к Троекурову исправник, выслушав генерала, попросил уединиться. Их не было полчаса. Обычно исправник лебезил перед Троекуровы и не смел слова сказать. А здесь полчаса! После разговора он обратился к мальчишке: «Барин хотел, посадить тебя в городской острог…, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение». Вместо плетей вдруг речь об остроге!? Нелепо вместо того, чтобы всыпать плетей своему крепостному, отсылать его в острог. Так в чем дело? Не могло быть такой пустой и нелогичной сцены. Может быть, мы что-то не понимаем?
Все легко объясняется, если мы вспомним, что у исправника некоторое время назад появилась выписка из ревизской сказки и приметы Дубровского. О том, чем вызваны эти бумаги, он теперь мог рассказать генералу. Никакие местные дела не переменили бы настрой Троекурова высечь мальчишку. Похоже, исправник доложил что-то важное. Вероятно, розыск касался мошенничества с залогом или продажей крестьян Кистеневки. В ходе спора вокруг бывшего имения Дубровских могло открыться мошенничество самого Троекурова по отъему его у Андрея Гавриловича. Исправник мог посоветовать Троекурову держаться подальше от спорного имения, пока все не прояснится, чтобы не понести крупные издержки, финансовые и касающиеся репутации. Если так, Троекуров не мог сечь не своих крестьян — только в острог, даже за воровство в саду. В других обстоятельствах он, без сомнения, плюнул бы на правила. Но не в споре со столичным банком – здесь важно было показать свою полную непричастность к крестьянам и имению. Трудно найти другое объяснение этого довольно странного эпизода, которому посвящено достаточно места в романе.
Дворянин Дубровский превратился в человека подлого сословия, француза.
Дубровский — это, в некотором смысле, результат осмысления Пушкиным эволюции русских дворян и превращения их в буржуа. Разорение, растранжиривание имущества, финансовые операции – начальные шаги на этом пути. Молодые энергичные люди не находили вкуса в службе, устали от балов, брезгали деревенской помещичьей жизнью, провинциальной скукой и мещанским бытом. Карты, женщины, вино опостылели. Чацкий, Онегин, Печорин искали, куда приложить фантазию, ум, энергию. При этом они не имели ни фундаментальных знаний, ни навыков, ни постоянного занятия. Они жаждали свободы, этот народившийся креативный класс 19 века, который порождал, в том числе, и финансовых мошенников, а затем и воротил капитала, банкиров, промышленников и купцов. Собственно, самое начало этой эволюции декабристов увидел Пушкин, самый вектор их развития. Все пришло в движение в направлении власти денег под прикрытием благородного лозунга «свобода, равенство, братство». Пушкин не морализирует и не дает оценок, просто в силу данного ему дара пророчествует о конце этого пути.
Нет никакой натяжки в том, что человек благородного сословия, дворянин Дубровский без всякого укора совести превращается в безродного француза и получает возможность скрыться от преследования, безопасно отсидеться и затем что-то предпринять, потом бежать заграницу и оттуда писать повести о своей разбойничьей молодости и геройствах. Эта история с превращением в Дефоржа – еще и метафора. Несостоявшийся декабрист Дубровский внутренне уже давно был европеец, не ценящий высоко наследственные титулы и дворянские звания. Это ниспровержение традиции характерно для «современных» людей того времени, находящих свободу не в благородном происхождении, а в свободном устройстве общества, в своих талантах и предприимчивости. Свое кредо свободного разночинца Дубровский формулирует Троекурову после убийства медведя так: «…я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения».
Принятое многими читателями суждение, будто Дубровский стал слугой с целью проникнуть в имение Троекурова и отомстить ему или ради любви, не выдерживает никакой критики. Оно навязано нам «разбойничьим романом», предположительно написанным бежавшим заграницу Дубровским. Как плохая развлекательная литература, он полон противоречий: глупо было бы сначала выложить десять тысяч ради того, чтобы проникнуть в дом Троекурова, а затем украсть деньги у Спицына, чтобы вылететь оттуда с треском. Мы же обращаемся к тому глубокому произведению, находящемуся под покровом разбойничьей притчи, которое написано Пушкиным не для широкой публики. В нем все эти противоречия превращаются в подсказки той истинной истории, которую Пушкин не мог рассказать открыто. Впрочем, мы повторяемся…
О мщении Троекурову Дубровский не помышлял; приехав на станцию, забыл даже фамилию соседа. Могло ли быть иначе? Молодой человек, увлеченный столичной жизнью, лишь один раз за пятнадцать лет слышал его имя, а за три последних года не нашел времени появиться в имении. Будет ли он пылать мщением к обидчику отца и помнить его? Да, Владимир в девятнадцать лет был «романтически» привязан к отцу, которого почти не знал. Эти благородные чувства выставлены на поверхность рассказчиком. А что чуть глубже? Романтическое чувство ветрено и питается детской фантазией, проходя быстро и почти без следа. Вопрос Дубровского к французу на станции: «кто такой этот Троекуров?» — это не игра и не попытка скрыть от француза знакомство с помещиком, или узнать что-то важное о нем. Смешно думать, что офицер гвардии притворялся перед французом, чтобы что-то выпытать у него о Троекурове. Что француз мог сказать о помещике, которого он ни разу не видел? Или зачем Дубровскому играть комедию перед французом, документы и имя которого он через пару минут цинично покупал? Нет. Дубровский не имел никаких мыслей о мщении Троекурову! Он его просто не помнил, забыл фамилию, старая история совершенно не волновала его!
Спрятаться от всех на время и переждать – вот что ему было очень и очень нужно. Стать обычным иностранцем, пусть не высокого звания, но и не холопом, остаться свободным человеком, не теряя достоинства, надеть на себя и опробовать шкуру рядового европейца, будущего свободного парижанина, коммерсанта, как об этом мечтал Дефорж — это душа Дубровского принимала с легкостью. Встреча с французом была совершенно невероятное для него везение. Через два-три месяца Дубровский мог бы безопасно покинуть пределы России с документами Дефоржа. Молодая динамичная Франция, словно заново родившаяся в купели революции, была столь же привлекательна в глазах молодежи России, как Америка начала двадцатого века в глазах всего мира. Россия же угнетала своей дремучей неповоротливостью и отсутствием перспективы.
Одно мгновение и Дубровский делает быстрое решительное предложение. «Офицер задумался. – Послушайте, — прервал офицер, — что если бы вместо этой будущности предложили вам десять тысяч с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж». Наверняка Дубровский примеривал на себя будущую жизнь, нарисованную французом: «…в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости – и тогда bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты», и сравнивал ее с из российскими реалиями: «сказывают, […] он не церемонится и уже двух засек до смерти». Дубровскому нравился выбор француза, хотя казался пока далеким и трудноисполнимым.
Фальшивые документы и планы Пушкина бежать заграницу.
Мы в очередной раз наблюдаем некоторую автобиографичность романа в использовании сюжетов, знакомых автору из его жизни. Пушкин, как известно, не раз просился выехать заграницу. Все его друзья многажды бывали во Франции, Италии, Австрии, а Пушкин — ни разу в жизни, хотя и очень мечтал. Его желание уехать было столь мучительно, что Пушкин даже предпринимал меры к побегу, хлопотал о фальшивых документах, предоставлял справки о неизлечимых болезнях вен, аневризмах. Тоску по свободной жизни и мечты о побеге он излил в стихотворении «Узник»: «Вскормленный в неволе орел молодой…».
В январе 1824 г. он пишет брату Льву Сергеевичу о планах бегства за границу:
Ты знаешь, что я дважды просил …о своем отпуске чрез его <царя>министров — и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ. […] не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится не в терпеж. Ubi bene, ibi patria. А мне bene там, где растет трын-трава, братцы. Были бы деньги, а где мне их взять? что до славы, то ею в России мудрено довольствоваться…
К этому времени относится неоконченное стихотворение Пушкина:
Презрев и голос укоризны, И зовы сладостных надежд, Иду в чужбине прах отчизны С дорожных отряхнуть одежд.
У Пушкина не было и денег на поездку за границу. Брат Лев Сергеевич взялся издать сочинения, чтобы раздобыть деньги. Но по беспечности совершенно затянул это дело и многим разболтал о намерении Пушкина. В одном из писем друзей встречается: «<Плетнев>думает, что Пушкин хочет иметь 15 тысяч, чтобы иметь способы бежать с ними в Америку или Грецию…»
В 1826 году Пушкин довольно приблизился к заветной цели и был почти уверен, что ему не откажут в просьбе выехать по болезни, и пишет Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и …, то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его, и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница!»
Пушкин был патриотом, но чрезмерный надзор, чувство несвободы тяготило его. Нет сомнений, что невыездному Пушкину трудность с пересечением границы со своим паспортом была знакома. Не исключено, что он обдумывал для себя возможность путешествия под чужими документами, и это нашло отражение в некоторых его письмах.
Дубровский в каком-то смысле близок Пушкину – по происхождению, кругу общения, социальному статусу. Дубровский человек его среды. Неудивительно, что и представления о мире и России у них могли быть схожими.
Пушкинский разворот по пути в Петербург после встречи с попом.
Пушкин вообще в творчестве удивительно конкретен и автобиографичен – не в буквальном повторении, а в смысле открытий сердца и ума, в пережитом и понятом.
Известно, что И. Пущин, друг Александра Сергеевича, член тайных обществ, незадолго до событий декабря 1825г. прислал письмо Пушкину в Михайловское с вызовом в Петербург. Не вернись Пушкин с дороги, говорил впоследствии Вяземский, «он бухнулся бы в кипяток мятежа у Рылеева в ночь с 13 на 14 декабря». Но, к счастью, по рассказам друзей он встретил на дороге попа. Суеверный, по мнению друзей-декабристов, Пушкин поворотил назад, так как решил, что из поездки «не будет добра». Пушкинская религиозность могла восприниматься более прогрессивными друзьями поэта как суеверие. Эту встречу Пушкин пересказал в «Дубровском», намекая друзьям, о чем роман, и заодно сообщив им действительные причины своего поворота: «…навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастном предзнаменовании пришла ему в голову…. – Удались от зла и сотвори благо, — говорил поп попадье». Это слова 33-го псалма пророка и царя Давида. Чем не пророчество для Дубровского? И для Пушкина. Пушкин счел злом будущий мятеж («не будет добра») и удалился от него.
Перепутье.
Как известно, Александр Сергеевич умер христианином, исповедавшись перед смертью. Трудно поверить, что он стал им на смертном одре. Декабрь 1825 года был одним из ключевых моментов в жизни Пушкина, заставивших его пересмотреть взгляды, в том числе и религиозные. Через несколько месяцев после мятежа Пушкин написал свое знаменитое стихотворение «Пророк», которым передает свое полное духовное перерождение, подобное описанному в книге пророка Исайи:
«В год смерти царя Озии видел я Господа […] Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл […] И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами […] Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего…».
А вот Пушкинские строки, сравните:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
…
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
….
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Что это за перепутье? Декабрьское восстание, где решалась его жизнь, раздумья и переживания (участвовать в нем или нет?) накануне, в изоляции от друзей в Михайловском (в пустыне мрачной…) – это стало перепутьем для Пушкина. Он отказался от пути бунтаря, принял судьбу поэта и пророка.
Роман как притча о судьбе России.
Местами роман похож на притчу. Судьба кистеневских крестьян, простых и преданных барину – то, что могло ожидать Россию при удаче восстания. Дубровский сжег имение вместе с представителями нового хозяина, сгорела вся деревня, место жизни крестьян. Они переселились в землянки и жили так много лет. Так и декабристы хотели подпалить Россию под предлогом незаконной передачи власти после смерти Александра I новому «хозяину земли русской». Наследником был Константин, а не Николай – под этим лозунгом декабристы взывали к восстанию солдат, бывших крестьян. Спор хозяев.
Это и есть зло, о котором услышал Дубровский, но не уклонился. В отличие от Пушкина. Позже Пушкин напишет болдинские рассказы, в которых много размышляет о божественном промысле («Метель», «Барышня-крестьянка», «Выстрел»).
- Эпизоды, характеризующие Дубровского как человека.
Приоткрыв событийную канву, спрятанную от цензуры двуслойной структурой романа и краткостью пушкинской прозы, можем теперь посмотреть на Дубровского более трезвым взглядом. Общественное мнение, приписав ему исключительные черты и подвиги, сделало его особенной личностью и предметом любви. Причем, одинаково ошиблись в Дубровском, как современники Пушкина, изображенные в романе, так и цензоры, читавшие роман, и большинство читающей публики в последующие два века. Такова сила общественного мнения и пушкинского гения.
Первоначальные сведения о Дубровском точны и откровенны: «Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости». Все сказанное писателем о Дубровском было характерно для молодых людей его времени, и часто оценивалось исключительно в положительном смысле. Расточительность, романтическая влюбленность, склонность к утонченной роскоши были в глазах света добродетелями, свидетельством щедрости, раскрепощенности и развитого вкуса соответственно. При том он был, как ему казалось, романтически привязан к отцу, «и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями». Первые сцены в Кистеневке располагают сердца к Дубровскому и задают весь тон отношения к нему в последующем. Но надо признать, что романтическая привязанность, столь характерная чувственным натурам образованного и благородного сословия, происходит от фантазии и подобна пару. Она исчезает также быстро и никуда, как ниоткуда берется. Отдав дань сыновним чувствам, Дубровский решительно отбрасывает сантименты и с головой погружается в бурлящую жизнь столицы.
Конечно, не может не располагать к нему его решительность и готовность действовать в любой момент. Но его расчетливость и равнодушная жестокость почти никем не замечается. Это, впрочем, не видит и повествующий о себе Дубровский – он так ничего и не понял в своем прошлом.
Рассмотрим несколько характерных эпизодов.
Убийство приказных.
Дубровский заперся в кабинете отца, оставив приказных пьянствовать в зале. ««Итак, все кончено», — сказал он сам себе […] пускай же и ему не достанется печальный дом […] Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его». Дальше следует сцена, полная подробностей, которые словно фиксируются вниманием Дубровского, а Пушкин достает их из его ума и выкладывает на бумагу. Владимир с отвращением проходит залой мимо пьяных подьячих, упирается в передней в запертую дверь, возвращается за ключом, который лежит на столе; затем, открыв дверь, натыкается на кузнеца Архипа с топором, который почти не скрывает своего замысла в отношении непрошеных гостей. Видя готовность Архипа к убийству, Дубровский довольно цинично использует его.
На словах он журит Архипа: «… не дело ты затеял. Не приказные виноваты». Отдав распоряжение вывести из дома всех, кроме приказных и взяв сено, он посылает Архипа отпереть будто бы второпях запертые двери в переднюю, чтобы приказные могли выбежать из горящего дома. Дубровский, конечно, не мог запамятовать, что не запирал дверей. Это очевидно из самого характера повествования, не предполагающего ни малейшей рассеянности Владимира. Умом слегка как ребенок, Архип, обрадовавшись, молча бежит в сени исполнить свой замысел и закрывает дверь залы на ключ. Дубровский, сделав его убийцей, умывает руки и, простившись, отбывает. При расследовании дела, при всех о нем «сильных подозрениях», Дубровский остался невиновным в смерти подьячих. Вероятным убийцей и «главным, если не единственным, виновником пожара» расследование сочло Архипа.
Обратим внимание на рассказчика в этой короткой истории, происшедшей в Кистеневке. Здесь особенно хорошо видно, что все повествование ведется самим Дубровским: мы часто видим его в одиночестве, узнаем его мысли и чувства. Все остальные люди показаны нам его глазами. Как обычно, повествователь не договаривает, хочет обелить главного героя, представить его невиновным.
Ограбление помещика Спицына.
Отметим, что Пушкин ключевыми датами, которые определяют расстановку всех событий романа во времени, взял два христианских праздника, особенно почитаемых в России: Покров Божьей Матери и день Николая Чудотворца. Дубровский, как мы уже отмечали, — это новый русский европеец, человек без корней. Он, не колеблясь, обокрал на Покров до нитки местного помещика Антона Пафнутьича Спицина, чего не сделал бы, пожалуй, в России и какой-нибудь закоренелый бандит. В другое время и голову бы без всякой жалости оторвали за меньшие деньги, но праздники чтили.
Ради чего Дубровский это сделал: из жадности или ради справедливости? Написано так: «Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников своего бедствия ….». Далее логично были бы ожидать рассказ о том, как дворянин наказал негодяя. Сначала он мог бы открыться ему и обвинить в смерти отца, а затем… либо пристрелить, либо отпустить с презрением, либо благородно простить после покаяния. Вместо этого читаем продолжение фразы: «Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть».
Завладеть деньгами Дубровский хотел по возможности тихо, не разбудив Спицына. Но помещик почувствовал «сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки» и проснулся. Пришлось его припугнуть: «молчать, или вы пропали. Я Дубровский» — Дубровский не первый раз воспользовался своей славой разбойника. Но в реальности это первый и единственный эпизод (если не считать нападения на князя Верейского) в «разбойничьем романе», где Дубровский действительно разбойничает, притом не очень «благородно». Дело больше напоминает воровство. Но во время завтрака он «сидел, как ни в чем не бывало», когда Спицын появился в гостиной. Перед нами игрок: Дубровский решителен, слегка авантюрен, изобретателен и готов передернуть карты, пока не смотрят.
Забавный мишка.
Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближался.
Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и
выстрелил.
Дубровский. Глава VIII.
Как мы помним, Кирила Петрович иногда развлекался с гостями, заперев их в комнате с проголодавшимся медведем, привязанным веревкой за кольцо в стене. Веревка была рассчитана так, чтобы оставался один безопасный угол, куда и забивался в конце концов перепуганный гость. Француз не испугался и пристрелил медведя. Храбрость Дефоржа поразила хозяина и всех гостей, и в Марии зародила некоторое чувство к французу. Разве может храброе сердце быть коварным? – этот вопрос, пожалуй, возникал при чтении романа у многих. В этой антиномии заключена магическая сила воздействия на публику подобных историй. Женская половина влюбляется в героя окончательно и перестает трезво смотреть на него и его поступки.
Сцена с мишкой написана так, как бы ее донес нам простоватый свидетель этой истории. Он словно подталкивает нас поверить, что француз поступил как настоящий герой, и его не заботят явные нестыковки и даже нелепости рассказа. Но для нас это намек задуматься, правильно ли мы понимаем происшедшее или поддаемся навязанному мнению рассказчика.
Безусловно, Дубровский в образе француза явил решительность и хладнокровие. Но была ли им здесь явлена храбрость? Скорее, нет. Кто может всерьез поверить, что в ухо нападающему разъяренному медведю можно вставить пистолет? Это не под силу и опытному дрессировщику в цирке. Все станет на места, если мы вспомним, что медведь был ручной, один из тех, с которыми часами возился сам Кирила Петрович. Дубровский, который в отличие от гостей, «привязался к семейству и почитал уже себя членом оного», имел сношения со всеми домашними, и вполне мог забавляться с мишками на кухне или во дворе, где они были привязаны. Да и без забав он не мог не подметить их нрава, и как с мишками бесцеремонно обходились дворовые, то впрягая их в телеги, то «подкатывая им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями».
Даже пострадавший от самодурства Кирила Петровича помещик Спицын, когда пришел в себя, посчитал молодого мишку скорее не страшным, а забавным: «какой был забавник! Какой умница! Эдакого медведя другого не сыщешь». Зверь еще недостаточно подрос (большому медведю, стоящему в виде чучела на задних лапах в музее и в ухо не дотянешься), и его еще не травили собаками. Такие подростки часто становятся на задние лапы и идут выпрашивать еду, особенно когда голодные. Если же человек убегает, то медведь инстинктивно воспринимает его как добычу и начинает преследовать и хватать лапами, кусать. Так доставалось от когтей мишки струсившим жертвам троекуровских шуток. Кирила Петрович знал повадки зверя и ничем не рисковал, но рассчитывал повеселиться. Весь расчет Троекурова был на неожиданность, неподготовленность и невооруженность гостей. Дубровский же был не трусливого десятка, он был строевым офицером, привыкшим видеть убийственную силу пули и был вооружен двумя пистолетами.
Кирила Петрович, который не отличался большим умом и наблюдательностью и привык к определенном эффекту в отношении гостей, был на самом деле удивлен. В добавок, он получил повод «с великим удовольствием» расхваливать француза, «ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его».
Была ли у Дубровского необходимость убивать медведя? Судя по всему, нет. Тогда чего было больше в этом поступке: хладнокровия, жестокости или расчета на последующее впечатление? В любом случае, эффект был потрясающим.
Убийство офицера.
В наше время более трепетно относятся к животным, чем в 19 веке. Тогда убийство зверя, даже не вызванное необходимостью, не вызвало бы возмущения. Но что сказало бы столичное или провинциальное общество, или читающая публика, если бы узнало о столь же расчетливом и хладнокровном убийстве человека? Рассказ о таком убийстве находим в самом конце повести. Описано оно так: «Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились». Опять какая-то нелепость, как и с ухом медведя. Словно бы Пушкину не хватило слов, как следует написать сцену, чтобы она не казалась невероятной! Как же возможно разбойнику, за которым пришел отряд солдат, подойти к офицеру в окружении своих солдат, не таясь, не сзади, подойти лицом к лицу, чтобы приставить пистолет к сердцу? Оказывается, рассказчик, напротив чрезвычайно точен в словах, но он о многом умалчивает. Как будто рассказывает о себе и, как бывает в таких случаях, пропускает все, что вредит его репутации. Мы должны не прочитать, а догадаться. И что мы здесь видим? Все то же бесстрашие и расчетливую жестокость, филигранное владение чувствами и знание психологии и реакций человека в неожиданной ситуации. Если и был у Дубровского необычный дар, так это способность, часто свойственная игрокам, авантюристам и мошенникам четко предугадывать поведение человека в экстремальной для него ситуации. Плюс, конечно, решительность – этого у Дубровского не отнять. Итак, офицер и солдаты пришли ловить разбойников, бесхозных крестьян с вилами. Очевидно, что они пришли не за Дубровским, а если и за ним, то одетым, как модный молодой француз. Откуда-то совершенно неожиданно вышел незнакомый человек в офицерской форме, возможно даже что-то сказал командиру и солдатам, указывая на расположение разбойников. Дубровский мог обращаться к офицеру и на французском. Они от неожиданности растерялись. Он точно не вызвал у них никаких подозрений, так, как и форма, и выправка, и речь выдавали в нем не разбойника, а дворянина. Разве мог офицер в форме быть разбойником из леса? Дубровский совершенно безопасно подходит к офицеру и убивает его в упор. Солдаты в растерянности, они не понимают, что происходит. И даже не оказывают сопротивления, не стреляют в ответ в самого Дубровского.
В те времена, когда кодекс чести не был пустым звуком, русский офицер мог убить другого офицера только на дуэли. Поведение, подобное описанному выше, рассматривалось, как подлость и трусость. Воспользовавшись доверием, завалить офицера, как животное, чтобы спасти свою жизнь – такое невозможно было представить!
- Отношения Владимира Дубровского к Марии Троекуровой. Любовь?
Тема отношений Владимира Дубровского и Марии Троекуровой считается основной, вокруг нее вертятся события романа. Некоторые полагают даже, что Дубровский нашел способ попасть в имение Троекурова, став на время французом по имени Дефорж, чтобы завладеть рукой и сердцем Марьи Кириловны.
Ранее мы выясняли истинные мотивы, приведшие Дубровского в дом Троекурова. Здесь мы еще раз убедимся, что не месть и не любовь двигали им тогда. Не исключено, что позже Владимир мог полюбить Марию, как это обыкновенно бывает после продолжительного общения с красивой девушкой. Но такая влюбленность могла ли отменить расчет? Как мы помним, с младых лет он предполагал поправить свои финансы, ставя их выше чувства, и предвидел себе богатую невесту.
Первое свидание. Когда Дубровский впервые увидел Машу? Ложь Дубровского о себе, как разбойнике мстителе, простившем отца возлюбленной.
Попробуем сначала разобраться, мог ли Владимир Дубровский по-настоящему заинтересоваться Машей до своего появления под именем Дефорж в ее доме. В свой первый приезд, когда Владимир ехал берегом широкого озера мимо Покровского, он «вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей». Эти воспоминания были о времени далекого детства, после которого минули двенадцать лет. «Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада». Пролетев село, они вскоре въехали в Кистеневку. Дубровский застал отца совсем немощным и «не отходил от старика, впадшего в совершенное детство». Отец умер на руках Владимира, гроб нес Владимир и еще трое слуг. По возвращении с похорон, Дубровский, заставший непрошенных гостей в имении, заперся в кабинете, а ночью поджег дом, простился с народом и отбыл из тех мест «куда Бог поведет». Таким образом, о Маше он вспомнил мельком, а затем и времени не имел не только с ней видеться, но и думать о ней.
Прибыв на станцию Песочное, которая рядом с Покровским через три года, «Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился […] к Троекурову и поселился в его доме». Если не считать мелькнувшего три года назад платья или игр с пятилетней девочкой, Дубровский увидел Марию впервые, когда ее позвал Кирила Петрович для перевода, и был тогда, как сказано, поражен ее красотой. Но сама она «не обратила никакого внимания на молодого француза» и «не заметила и впечатления, ею произведенного на m-r Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса».
Итак, Дубровский раньше не знал Маши, иначе как бы «поразился ее красотой»? Но на свидании он лжет, что давно любит ее, что ради нее отказался от мести, что целыми днями искал возможность оказаться с ней рядом. Но может ли расчетливая ложь быть одновременно и словами любви? Нет.
Вот его слова: «Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье».
Дубровский не замечает нелепости сказанного. Никакой незнакомец не смог бы бродить вокруг сада незамеченным. Даже в Кистеневке, где у Андрея Гавриловича было всего две гончих и одна свора борзых, собаки учуяв подъехавших, подняли лай, и только узнав Антона, замолкли. В Покровском было много больше собак и на псарне, и во дворе. Впрочем, барышня все равно пропустила ложь мимо ушей. Но мы для себя еще раз отметим, что Дубровский жил все эти годы в столице, а не в разбойничьей роще, иначе знал бы такие мелочи и не рискнул бы ради красного словца показаться обманщиком. Он в целом был внимательным к мелочам: чтобы придать своим словам больше доверия не забыл упомянуть мелькнувшее некогда белое платье, явно летнее, которое она в сентябре и октябре, когда он жил в ее доме, не одевала.
Владимир продолжает развивать историю тайной романтической любви разбойника, который как мальчишка прячется в кустах, защищая возлюбленную мысленно от неведомых врагов:
«В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме». От кого он ее охранял? Что за опасность? Но Маша не замечает нелепости. Главное, это так романтично!
Поняв за три недели, что Маша не сможет преодолеть условности и полюбить учителя, Владимир пытается объясниться ей в новой роли – дворянина и главаря разбойников. Он настаивает, что действовал ради любви, что любовь может оправдать лицедейство, превращение дворянина в слугу. «Я не то, что вы предполагаете», — говорит он: «Я не француз Дефорж, а Дубровский».
«Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться – ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству – в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства».
«Кровавый подвиг», «ваш дом священ», «не подлежит проклятью» — говорит высокопарно, продуманно, с выражением! Изображает пламенную страсть, искренность и неудержимую бурю чувств, хорошо знает Машу и тонко чувствует, что барышня живет по большей части в придуманном мире и витает в фантазиях. Он их подрисовывает, словно искусный декоратор. Пытается льстить ее сердцу: она прекрасна, она любима, она спасла отца! Никого из петербургского общества слова Дубровского не сбили бы с толку. Но не так смотрят в провинции, тем более Маша, библиотечная затворница. Ее ум он мог, пожалуй, обмануть, но сердце Марьи Кириловны не слышит и молчит, оно чувствует фальшь. Оно не радо обманываться, как сердце столичных кокеток. И это при том, что к мифическому разбойнику, о котором тремя неделями раньше рассказывала помещица Глобова, Маша, «пылкая мечтательница», испытывала больше многих доброжелательство, «видя в нем героя романического».
Восприятие романа современниками Пушкина. Почему они не видели лицемерия главного героя?
Обратимся к восприятию романа современниками Пушкина. Почему не всем его читателям была очевидна вся эта ложь? Литература той поры была большей частью наивна. Предполагалось, что герои романов говорят правду. Умные и тонкие читатели давно бросили чтение романов, но если и читали, то на слащавые речи и объяснения в любви не смотрели критически, относили на счет неизбежных недостатков литературы как таковой – по-другому никто не писал. Если кто-то из героев лгал в романах, то автор снабжал его слова той или иной подсказкой. Этого ждали и в данном случае. Но подсказок нет. Пушкин полностью избегает этой пошлости, уважая читателей и предоставляя им право самим разбираться, где ложь, где правда. Не все были готовы к таким революционным переменам в литературе, поэтому не назвали ложь героя ложью и обольщением, привычно снисходительно отнеслись к его чрезмерной высокопарности – ведь перед ними разбойничий роман! Литературного открытия Пушкина в результате не заметили, пока он не написал «Евгения Онегина».
Но мы-то видим и говорим: Дубровский в самом деле расчетливо обольщал Марью Кириловну. Если бы гении «науки страсти нежной» не в романе прочли его речи, а услышали их в реальной жизни, разве не сочли бы его обычным обольстителем? Сочли бы.
Цель первого свидания.
Теперь скажем о цели свидания, и в чем состоял расчет Дубровского.
Очевидно, Дубровский знал заранее, когда за ним прибудет исправник и назначил свидание на 7 часов — точно на время его приезда. Он с первых слов объявляет: «Обстоятельства требуют … я должен вас оставить […] Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно далее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня… сей же час…». Хотя мог бы, кажется, назначить другое время? Нет, все у него было рассчитано едва ли не по секундам. Выставленная заранее стража подтвердила свистом, что прибытие полицейского состоялось в назначенный срок. Маше Дубровский не объясняет свою осведомленность, да она и не спрашивает. Так в чем же его расчет?
Дубровский ежедневно занимался с Марьей Кириловной музыкой, чтением, прогулками. Он видел томление ее, ему даже казалось, что в сердце ее зародилось к нему чувство. Но ее поведение сдерживалось воспитанием, ум властвовал над ней более сердца – так самоуверенно полагал Дубровский. Убедившись, что Марья Кириловна никогда не примет предложение от слуги, Владимир открывает ей, что он дворянин. Далее следует признание в любви, закончившееся словами: «Думайте иногда о Дубровском. Знайте […], что душа его умела вас любить, что никогда…». Свист прервал его, он замолк, «схватил ее руку и прижал к пылающим устам». Очевидно, он ждал ответных чувств, слов. Ведь препятствие разрушено! Он в ее глазах уже не тот человек, «который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку». Времени на раздумье нет – вот и расчет. Но Марья Кириловна молчала.
Дубровский начинает вымогательство: «Простите… минута может погубить меня». «Марья Кириловна стояла неподвижно, Дубровский воротился и снова взял ее руку». Опять уговоры… «Марья Кириловны плакала молча. Свист раздался в третий раз». И уже неприкрытый шантаж: «Вы меня губите! Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа – обещаетесь ли вы или нет?» «Обещаюсь» — вырванное силой признание, но это несогласие на руку и сердце. Нет! Пока просто обещание прибегнуть к помощи. А Дубровский был так уверен, что все получится! И время встречи продумано, и такая речь! Словно о нем сказано:
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
…………………………………………..
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья…
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
Свиданье было ловко расставленными силками охотника. Расчет был на неожиданность, напор и считанные секунды на принятие решения. Сделай она шаг к побегу — и путь назад отрезан. Но Бог хранит чистые души, и птичка выпорхнула.
- Где был Дубровский после первого неудачного свидания с Марьей Кириловной и бегства из Покровского.
Никаких сведений об этом мы не видим. Между первым свиданием и вторым прошел почти год. Это легко вычисляется. Бегство Дубровского из Покровского совершилось в начале октября 1928 года. Князь Верейский, сватовство которого стало поводом для второго свидания, появился в июле следующего года. То есть прошел почти год.
Что же «возлюбленные»? Ничего. Абсолютно. Ни писем, ни слез.
Если об образе жизни Марьи Кириловны догадаться не трудно – она продолжала библиотечную жизнь, то что скажем о Дубровском? У него на руках паспорт француза и куча денег – те, что остались от залога имения, плюс украденные у Спицына. Судя по тому, что рассказал Троекуров о Антоне Павловиче, сумма досталась Дубровскому немаленькая. Неужели с паспортом и деньгами Дубровский поселился в землянке в кистеневской роще? Невозможно представить! Да он завшивел бы там, ободрался и завонялся, как разбойники — какое уж там второе свидание с барышней.
Более вероятно, что Дубровский уехал во Францию, например, с документами Дефоржа, познакомился заграницей с князем Верейским, которого и надоумил вернуться, чтобы взять в России жену. Дубровский, сам имея определенные планы, мог упомянуть, что у его обидчика Троекурова есть красавица дочь. Князь же, вернувшись из заграницы в свое имение, на третий день заскучал. Он никогда не был в тех местах, как же узнал к кому ехать? Предположение, сделанное нами ранее, что Дубровский не только был знаком с князем, но, вероятно, гостил у него, вполне правдоподобно. Далее все ясно: и предложение Марье Кириловне познакомиться с Дубровским, и смущение князя после истории об учителе Дефорже, и быстрый отъезд князя из гостей для получения объяснений, полумаска Дубровского, выстрел князя, когда Марья Кириловна открыла, что нападавшим был Дубровский.
- Возраст Марьи Кириловны ко времени сватовства князя.
Невесты во времена Пушкина.
Чтобы почувствовать композиционные нюансы романа, нам нужно пару слов сказать о возрасте невест той давней эпохи. Марье Гавриловне из «Метели», такой же, как и Марья Кириловна романтичной читательнице французских романов, было семнадцать, когда она полюбила бедного дворянина Владимира и была венчана в церкви. Прошли долгие три года. Холодная и равнодушная к женихам, опытная, серьезная и богатая невеста, она «приуготовляла развязку», «вступала военные действия» и вообще вела себя как опытный стратег в делах «науки страсти нежной» на двадцать первом году жизни. Татьяне Лариной, когда она влюбилась в Онегина, было то ли тринадцать, то ли семнадцать. Проходит несколько времени, а мать уже беспокоится: «Как быть? Татьяна не дитя… Ведь Оленька ее моложе, пристроить девушку, ей-ей, Пора…». Сам Пушкин сделал предложение 16-ти летней Наталье Гончаровой. Тогда считалось, что девушка должна выйти замуж до двадцати лет, иначе она рисковала остаться в девах либо получить в мужья небогатого и циничного искателя приданого.
Возраст Маши в год первого приезда Дубровского к больному отцу.
Мы помним, что Владимиру Дубровскому в момент его знакомства с Машей, если не считать их общего детства, было двадцать три года. Возраст Маши, как и любой женщины, узнать сложнее. Пушкин как-то загадочно и неопределенно выразился, когда представлял дочь Кирила Петровича читателям: «В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота ее была в полном цвете». Эпоха, как мы видели, растянулась на несколько лет, поэтому для Машиного семнадцатилетия нам нужно подыскать более конкретный год этой эпохи.
Заранее отметим, что кроме этой неопределенности, есть и прямое противоречие в повествовании, касающееся возраста Маши, которое нам придется объяснить либо ошибкой автора, либо логикой и смыслом событий.
Дубровский, проезжая Покровское по дороге к больному отцу вспомнил, что играл там «с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей». Мы не знаем дату ее рождения, и поэтому затрудняемся точно выразить разницу в их возрасте: была ли она несколько менее двух лет или более. Описываемая Пушкиным эпоха, когда родилась легенда о Дубровском, началась как раз с приезда Дубровского к отцу. Это случилось в начале лета 1825 года и ему было девятнадцать, а к осени исполнилось двадцать лет. Отнимем два года и получим, что как раз тогда Маше и было около семнадцати.
Лукавство Кирилы Петровича с возрастом любимой дочери.
Но дальше автор нас переносит сразу на три года вперед. На праздник Покрова 1 октября 1828 года Маше двадцать один. Но за праздничным обедом генерал при всех гостях вдруг заявляет после рассказа помещицы Глобовой: «А ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, […] – Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский. […] Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а только был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю, наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следовательно, ему не тридцать пять, а около двадцати трех». Кирила Петрович не мог не знать точно возраст Владимира, за которого он в разговоре с своим другом Андреем Гавриловичем некогда «сватал» дочь. Но почему Маша по-прежнему для него семнадцатилетняя девушка, а разница в их возрасте увеличилась с двух до пяти лет? Это и есть та нестыковка в сроках, на которую сетовал Анненков? Или мы вновь и вновь попадаемся как на крючок, на привычку получать по каждому поводу авторские пояснения и комментарии? Без них мы путаемся от слов героев, особенно если они лгут, лукавят или хитрят, и оттого полагаем, что автор был небрежен. Так не в том ли разгадка, что Кирила Петрович слукавил? Возможно. Но тогда попробуем найти его хитрости простое объяснение!
Искать долго не придется: Кирила Петрович «любил дочь до безумия» и очень переживал о ее затянувшемся детстве. Он не мог допустить, чтобы начались перешептывания в обществе о том, что его дочь засиделась в девках. Кирила Петрович, начиная с некоторых пор и на всю «описываемую эпоху» как будто забыл, что возраст с годами увеличивается и окончательно решил, что для него и гостей Маше отныне семнадцать.
Для убеждения скептически настроенных читателей приведем еще косвенные доказательства, что Кирила Петрович лукавил, и разница в возрасте Владимира и Марьи была два года.
Косвенные свидетельства о возрасте Маши.
Первое состоит в следующем. Когда Маша и Владимир играли детьми, Владимиру было не больше восьми лет. Потом он уехал в Петербург. Мог ли мальчик играть вдвоем с двух-трехлетним ребенком, без присмотра родителей бегая по холму, да еще угадать в младенце будущую красавицу? А восьмилетнему мальчишке с пяти-шестилетней девочкой было куда интересней, и он это запомнил.
Второе соображение таково. К приезду мусье Дефоржа сын Мими Саша был «шалун лет девяти». Некоторая неопределенность в возрасте — скорее в пользу большего, чем девять лет, возраста, так как всего через год ему по виду уже ближе к одиннадцати. Кирила Петрович отправил свою Мими в другое поместье, когда «следствия его дружества стали слишком явными», то есть лет за девять-десять до приезда Дефоржа. Поэтому Маше пришлось завершить свое воспитание и образование, начатое под руководством мамзель Мими, в огромной библиотеке, полной французских романов. Если бы Маше к приезду учителя было семнадцать лет, то с учительницей французского она должна была расстаться, когда ей было не больше семи. Какими бы талантами не обладала девочка, но читать на французском взрослые романы, и самостоятельно продолжать образование в таком возрасте?! Это слишком даже для талантливой молодежи начала девятнадцатого века! Логичнее предположить, что ей к приезду Дефоржа было около двадцати одного. Тогда разлучение Маши с мадам Мими случилось в одиннадцать-двенадцать, что делает все повествование вполне реалистичным.
Возраст Маши ко времени сватовства князя Верейского.
Идем далее. Ко времени брака Марьи Кириловны и князя Верейского Владимиру Дубровскому было двадцать четыре года с половиной, а Марье Кириловне двадцать два, а возможно, и двадцать три.
Почему для на это так важно? Мы уже отмечали, что во времена Александра Сергеевича представления о подходящем для невест возрасте сильно отличались от нашего времени. И это обстоятельство не могло не влиять самым существенным образом на мотивы и поступки всех, кто был вовлечен в эту историю.
На Кирила Петровича, к примеру. Он был вспыльчивым, но и отходчивым бывшим служакой. Любил иногда прихвастнуть, посидеть во главе стола, и подшутить над гостями, и вообще тщеславился по любому поводу. Но он не был коварен, злопамятен. Болезнь Андрея Гавриловича после суда сильно расстроила его. «Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решил помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратить ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа…». Обычный русский барин, со свойственными нашим людям чертами добрыми и злыми. Его замечание о возрасте дочери, словно случайно к месту пришедшееся, и притом сказанное для всех гостей, по-детски наивное в своем очевидном для всех маленьком обмане – и перед нами открываются переживания Кирилы Петровича, и причина его кажущейся «жестокости» к дочери. Кирила Петрович втолковывает ей, когда она заупрямилась после встречи с Дубровским в саду и начала отпираться от замужества: «Это что значит, … до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться…. Все это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия». Троекуров, как сказано, был не сребролюбив и не стремился к выгодному браку дочери. Сватать дочь за сына своего друга бедного дворянина Андрея Гавриловича не стыдился, выгоды денежной не искал, славу и почет уже имел и прибавить к ним что-либо не рассчитывал. Да и самого князя Верейского едва лишь почитал себе равным, рассматривая его расходы на прием в Арбатове «как знаки уважения и желания ему угодить». Так что ничто, кроме страха за будущее дочери и ее счастье, как он это счастье понимал, его не занимало при решении о женитьбе. Мария Кириловна и сама это понимала, когда говорила Дубровскому: «Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит».
Почему Маша противилась браку с князем?
Почему же упрямилась Марья Кириловна? Она жила грезами, «не имела подруг и выросла в уединении. […] Редко наша красавица являлась посреди гостей […] Огромная библиотека […] была отдана в ее распоряжение». Точнее всего сказал о ней и об отце Дубровский, когда пытался выставить Кирила Петровича в глазах дочери как тупого упрямца: «Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда они идут замуж не по страсти…» Ровно то же видел в ее слезах и сам Дубровский, не подавая, правда, виду. Да и вообще-то эта мысль была по большей части справедлива. Привычка жить не в замужестве и боязливость к перемене жизни укоренилась в ней с возрастом, и со временем могла стать непреодолимой. Но привычки, мы знаем, меняются. Вспомним Татьяну из «Онегина»:
Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.
Теперь скажем о князе. Он, будучи опытным в сердечных делах («старый волокита»), смотрел на вещи ровно так, как Кирила Петрович: девицы, вкусив семейной жизни, все забывают и меняются. Когда Марья Кириловна тайком вручила ему письмо с мольбой отказаться от ее руки, «тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу», понимая, что ее страхи и отвращение очень быстро сменятся хлопотами, заботой о детях и тихим семейным счастьем. И главное, князь не считал брак с ней неравным, даже по возрасту. Он был интересен Марье Кириловне, что стало ясно князю из ее поведения на приеме в Арбатове. Она с удовольствием внимала его живому и с чувством объяснению живописи, «не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду», «веселилась как дитя» и была «в восхищении» от забав, чувствовала себя непринужденно, «разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна». Она не осознавала, что ей в тех годах уже нужен был именно такой умный и тонкий спутник жизни. Она не искала бурной жизни и увеселений высшего общества. Если еще вспомнить, что князь «был поражен ее красотой», то будет ясно, что и он видел в ней прекрасную супругу, с которой в очень скором времени после женитьбы они будут иметь взаимные симпатии и любовь. Мы не знаем в точности, так ли случилось в самом деле, но князь вполне вероятно имел такой образ мыслей на их будущее.
- План Дубровского на богатую невесту. Отношения Дубровского с князем.
Перед описанием второго свидания сделаем еще одно небольшое отступление, которое позволит нам увидеть гениальный план Дубровского во всей его коварной изящности.
Бросается в глаза невероятная осведомленность Владимира о всем происходящем. Первые слова его при встрече: «Я все знаю. Вспомните свое обещание». Князь Верейский еще беседует с отцом Марии, а к ней в окошко уже просовывается рука с запиской: «кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. […] Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. […] — Подойди сюда, Маша, — сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает».
Разве Дубровский мог узнать о цели визита князя до того, как он приехал к генералу сватать Марью Кириловну? Дело было деликатное, так как возраст князя предполагал некоторую вероятность отказа со стороны отца или невесты. Общественный статус и генерала, и князя, и их приятельство требовали избежать возможной неловкости. Понадобилась предварительная личная беседа с глазу на глаз. Поэтому князь приехал сам, а не послал сватов. Этим объясняется неожиданность новости для Марьи Кириловны. Обычно слухи распространялись с молниеносной скоростью и неведомыми путями. Например, так было после помолвки: «сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства – Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась».
Итак, живя в кистеневской роще, Дубровский не мог узнать о сватовстве первым, чтобы передать записку с просьбой о свидании. Князь же никого в губернии не знал. Он был одинок. Невозможно предположить, чтобы он советовался там с кем-то. Единственное, что приходит на ум – сам Дубровский был к тому времени другом и советчиком князя. И, как мы писали, наверняка гостил продолжительное время у князя в имении. Возможно, из заграницы они вернулись вместе. Дубровский мог рассказать князю о засидевшейся в невестах Маше и даже подталкивать князя к женитьбе, упирая на то, что ее упрямство — не больше, чем каприз от привычки жить девой. Капризность преходяща, а женитьба на ней – благородный поступок со стороны князя, потому что она не так уж молода.
Зачем это было нужно Дубровскому, спросите вы? Для Дубровского Марья Кириловна могла стать решением всех его проблем. Она была красива и имела богатого отца, значит была богатой наследницей. Но Дубровскому невозможно было просить у Троекурова руки дочери по многим причинам. Во-первых, он имел славу разбойника. Во-вторых, глазах всей губернии он был представлен слугой, французом Дефоржем, а слуга не мог быть зятем у Троекурова. Даже если бы за него умоляла отца дочь. В-третьих, нависла история с мошенничеством и залогами. Да и сама Марья Кириловна, несмотря на некоторые предполагаемые чувства, твердо решила отказать ему. Она сомневалась только, сделать это «с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием».
Остается бегство с невестой в надежде со временем получить наследство. Отец рано или поздно простил бы любимую дочь, полюбившую другого.
Но добровольно бежать с Дубровским из дома отца Марья Кириловна не пожелала. Дубровский оставил на время затею, по-видимому, занимаясь «оборотами» заграницей, пока не представился случай. Им был Верейский, имевший имение рядом с Троекуровым, и никогда в нем не бывавший. Князь подходил на роль невольного исполнителя плана. Это была роль пугала для Марьи Кириловны. Дубровский старательно превращал князя в чудовище, рисуя на втором свидании ей «весь ужас будущего», ее «молодость, увядающую близ хилого и развратного старика» — образ, действующий почти гипнотически, вызывающий отвращение. Дубровский провел много времени, общаясь с Машей и прекрасно мог играть на всех ее струнах. Он знал, что больше всего ей не хотелось расставаться с книгами и привычной жизнью, и только насильственное сватовство «развратника» могло загнать ее в расставленную Дубровским ловушку. Заметим, мнение Маши о Верейским было поначалу весьма положительным, ей было интересно и увлекательно проводить с ним время, но выслушав предложение, она вообразила «себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным – брак пугал ее как плаха, как могила». Слова Дубровского еще больше повлияли на нее.
Второе свидание
Второе свидание Владимира и Марии произошло почти через год после первого. Оно наполнено такими же громкими признаниями: «За вас я отдал бы жизнь… возможность прижать к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! … О, как должен я ненавидеть того – но чувствую, теперь в моем сердце нет места ненависти» и т.д. И оно еще более первого построено на безжалостном плане завоевания богатого приданого и будущего наследства.
Услышав от Марьи Кириловны, что «еще есть надежда», что отец «упрям, но он так меня любит», Дубровский почувствовал опасность своим планам. И не ошибся. Кирила Петрович «был тронут» словами дочери. Неизвестно, стал бы он настаивать на женитьбе, видя сколь тягостен для дочери брак. Владимир навязывает Маше план разговора с отцом. Владимир нисколько не сомневается, что инструкцию она выполнит в точности — еще во время его учительства она привыкла, как написано, «обо всем знать его мнение и всегда с ним соглашаться». Дубровский наставляет Машу: «умоляйте отца, бросьтесь к его ногам… если он останется неумолим, то…, то (скажите) вы найдете ужасную защиту…». Дубровскому ли не знать вспыльчивый характер Троекурова! Ему было точно известно, что как только Кирила Петрович услышит от дочери угрозу, то уже ничто не изменит его решения. Так и случилось. Кирила Петрович от слез дочери «был тронут, но скрыл свое смущение». И вот Маша, следуя указаниям, говорит, что найдет защитника. «Что? что? – сказал Троекуров – угрозы! Мне угрозы, дерзкая девчонка!» Все кончено, сердце отца воспылало гневом, решение о женитьбе стало окончательным и бесповоротным. Цель Дубровского достигнута.
Запертая в комнате Маша плакала и воображала все, что ожидало ее. «Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака: участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготованным». Брак с князем – ужасен, но и супружество с Владимиром не желанно, а лишь менее отвратительно. Почему-то апологеты пылкой любви Марьи Кириловны к Дубровскому не замечают этих слов.
Дубровский и от этого свидания ждал большего. Он даже взял с собой кольцо, чтобы связать ее обручением. Но пригодилось оно только как средство связи.
Кажется, все стройно, кратко и точно сказано Пушкиным об этой истории «любви» или, точнее, несостоявшегося брака по расчету.
- Нападение на карету. Почему Дубровский был в полумаске?
В жизни мы часто пытаемся осмыслить происходящее на основе неполной информации. Мы подмечаем мелочи, казалось, несвязанные одна с другой, пытаемся понять человека и мотивы его поступков, и жизнь временами открывает нам свои тайны. К Пушкинской прозе можно относиться как к жизни. Если описанная в романе история происходила бы на самом деле, и мы были бы участниками и наблюдателями, то непременно в потоке событий и фактов нашли бы те, которые подтвердили или опровергли наше предположение. Что же все-таки заставляет нас думать, что женитьба князя и Марьи Кириловны была срежиссирована Дубровским?
Дубровский в полумаске явился спасать от князя Верейского повенчанную Марью Кириловну. От кого он скрывал лицо? Вся губерния не только видела его лицо — женская половина губернии танцевала с французом Дефоржем до полуночи на празднике Покрова. Потом все узнали, что Дефорж – это сам Дубровский. Можно не сомневаться, что эта новость было главной темой всех застолий в губернии еще много недель. Сама Марья Кириловна, которая ожидала освобождения и появления Дубровского, узнала его сразу и под платком. О том, что после операции защитником и спасителем Марьи Кириловны слухи также сделали бы Дубровского нет сомнений, больше некого. Да мало этого! Дубровский всегда бравировал своей славой и с удовольствием произносил сакраментальное: «Я Дубровский!» Так зачем прятать лицо? Есть только один человек, от которого Дубровскому имело смысл скрывать себя – это князь Верейский.
Как происходил захват кареты?
«Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня сказал ей: «Вы свободны, выходите». – «Что это значит, — закричал князь, — кто ты такой?» — «Это Дубровский», сказала княгиня».
Какая неожиданность! Марья Кириловна выдала Дубровского князю? Она его знала? Теперь и князь узнал его под полумаской. Князь сразу понял, что история про учителя Дефоржа, рассказанная Кирилом Петровичем на первой их встрече, правда. Им был Дубровский. Сделаем небольшое отступление.
Объяснение о Дефорже, которое дал князю Дубровский.
Мы уже писали, что история с Дефоржем, рассказанная князю Троекуровым, смутила его. Он срочно вернулся в имение, чтобы получить объяснение. Вот какое объяснение мог дать тогда князю Дубровский. Оно очень простое и правдоподобное. Французишка-учитель влюбился в Марью Кириловну, не понимая, что в его положении женитьба невозможна. Вероятно, он рассчитывал и на приданное. Тогда он пишет ей записку (заметим, на французском) и просит о свидании. На свидании Дефорж представляется (все по-французски) Дубровским, чтобы иметь право на ее руку. Каков наглец! Кто только не представлялся в тех местах Дубровским по любому поводу? То, что учитель настоящий француз, не может вызывать сомнения. Он ни с кем ведь не говорил по-русски: ни с Троекуровым, ни с дворовыми. Отчего же верить, что он русский дворянин? Даже с Марьей Кириловной на свидании они говорили по-французски. Вот как описано начало свидания: «Благодарю вас, – сказал он ей тихим и печальным голосом, – что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на, то не согласились. Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой: – Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Если бы Дефорж начал свидание, заговорив неожиданно по-русски, у ней был бы шок. Но она спокойна. А после и вовсе странно было менять язык. Тем более барышня, как и «онегинская» Татьяна, жившая в мире французских романов, точно «по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалася с трудом на языке своем родном». В тексте, как всегда, нет подробностей, но хватит и того, что на русском языке того времени сложно было придумать такие «изысканные» признания в любви, которую изобразил Дубровский. Показания Спицына – не в счет. Им даже Кирила Петрович поначалу не поверил. Помещик спросонья мог перепутать язык, на котором его припугнул Дефорж – все слышали, как вечером Спицын пытался с Дефоржем говорить на французском. И ему всюду мерещились разбойники. Так что влюбился французишка, учитель, и придумал, что он дворянин и разбойник! А потом сбежал, подлец, в свою Францию. Вот и вся история. После, как заведено, ради красивой легенды, досужих разговоров за столом, да и вообще от скуки родилась легенда, что француз и впрямь был переодетый Дубровский. Такое объяснение вполне могло устроить встревоженного князя, вернувшегося сразу после чая от Троекуровых и потребовавшего объяснений от гостившего у него друга.
Вернемся к нападению на карету. Князь был не робкого десятка. Почему же он стрелял не сразу, а лишь, когда услышал фамилию? Потому что под маской князь не узнал Дубровского и спросил: «Кто ты такой?». Но княгиня назвала его. Оказалось, что «друг» князя Дубровский и впрямь разбойник и лицедей. Вся подлость Дубровского, его игра и притворство, и тайный план раскрылись полностью.
Далее происходит следующее: «Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника».
Случай или божественное провидение разрушили коварные замыслы. Богу угоднее было, чтобы наивная душа досталась пусть стареющему, но более благородному князю. У Пушкина часто встречаем это вмешательство божественного промысла, чтобы оградить чистую душу от коварства.
- Кто автор истории, изложенной в романе?
Этот вопрос задал известный литературовед и издатель В.Козаровецкий после прочтения настоящей работы. Пожалуй, можно было бы обойтись в нашем исследовании без углубления в эту тему. Тем более, что мы вступаем на слишком зыбкую почву, где объем предположений начинает превалировать над весом доказательств. Достаточно и того, что мы уже узнали и изложили ранее: что роман о декабрьском восстании и о тех, кто оказался в его воронке.
Но ответ по некотором размышлении получился интересным и совершенно неожиданным для автора настоящего исследования.
Мы знаем, что Пушкин высмеивал романы для барышень, и никогда не опускался до их уровня. Поэтому многих удивило, что Александр Сергеевич обратился к данному жанру. Анализ показал, что автором довольно поверхностного «разбойничьего романа» является сам главный герой Дубровский. Хотя роман написан прекрасным языком, он содержит массу неточностей, ошибок, противоречий. Это отметили многие критики. Но почему отнесли небрежность к Пушкину?
Пушкин – автор второго, глубокого слоя романа. На этом уровне все ошибки превращаются в объяснения и подсказки, раскрывающие совершенно иную историю, которую мы изложили в этой работе. Так что комментарий Пушкина в «Евгении Онегине» в равной мере относится к «Дубровскому»:
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Дальше эта гипотеза рассматривается более развернуто.
Во-первых, мы должны признать, что прием распределения ролей (настоящий писатель, то есть Пушкин, и придуманный повествователь) может оказаться просто выступившей на поверхность первоначальной структурой текста в момент написания романа, так сказать, запахами кухни, оставшимися после приготовления блюда. Возможно, при работе над текстом Пушкин «склеивал» наброски, написанные от лица повествователя, вроде упомянутых ранее «Записок молодого человека», с другими кусками, написанными от лица самого Пушкина. Неполное наведение порядка могло проявиться в виде неудачных «стыков». Не исключено, что следы «монтажа» чем-то понравились Пушкину, создав некую «игру теней», о которой ниже.
Во-вторых, такова могла быть изначальная задумка Пушкина. И это предположение имеет гораздо больше оснований. Создав с помощью повествователя роман в романе, Пушкин решил проблему с цензурой. Цензоры, натасканные на романтизме, привыкли верить репликам героев и не предполагают, что они могут лгать, как в жизни, и притом без разоблачений со стороны автора. Так удалось за флером романтической разбойной истории спрятать серьезные наблюдения, связанные с восстанием 1825 года и его последствиями.
В «Повестях Белкина» «автор» повестей присутствует, при этом он пишет не о себе. Рассказчика мы слышим и в «Евгении Онегине»: здесь он представляется приятелем Онегина. В «Капитанской дочке» повествование ведется от лица главного героя. Его рассказ сосредоточен на событиях и людях вокруг него. Он явно положительный человек. Не будем дальше в это углубляться — лишь отметим, что в романе «Дубровский» мы с подобным приемом встречаемся не впервые. Отличие в том, что в «Дубровском» рассказчик не объясняет, в каких он отношениях с главным героем и другими персонажами, откуда сама история, кем написана или рассказана. Рассказчик и герой – малосимпатичные персонажи.
Нам нужно доказать, что введенный Пушкиным повествователь – не безликая функция, некий неведомый повествователь, а именно главный герой.
Главный герой и одновременно рассказчик – всегда субъективен, он заинтересованное лицо, ибо повествует о себе, хотя и в третьем лице. Заметим — так привычнее для нашего восприятия. Представим, что вы с друзьями обсуждаете известные всем события, и кто-то вдруг заявляет, что лично в них участвовал. А потом рассказывает с теми подробностями, которых не узнать из общедоступных источников. Ваше дело – верить ему или нет, и в какой мере. Такой рассказчик может упоминать о своих чувствах (и не всегда искренне), о других лишь делать предположения. Он часто бывает предвзят, иногда лжет, иногда путается и что-то забывает, иногда он зол на кого-то или на что-то, кого-то любит, кого-то презирает. Мы не раз в этом исследовании отмечали эти качества повествователя.
Такое построение романа интересно еще одним. Мы не знаем вполне, что в сердце рассказчика, как и любого человека, и у нас появляется место догадке и фантазии. Недосказанность притягивает и заставляет думать. А тайна и неразгаданность героев стоят рядом с неисчерпаемостью произведения. Все это мы наблюдаем в «Дубровском».
Если не предполагать, что Пушкин задумал сделать повествователем самого Дубровского, тщеславного и поверхностного человека, то кажущуюся небрежность, ошибки, противоречия мы должны приписать самому Пушкину.
Введение невидимого повествователя (как бы написавшего роман, но не представившегося) с определенным характером позволяет придать бинокулярность нашему зрению. Возникает два плана произведения: поверхностный и глубокий. Мы слышим, что рассказал нам «автор», но выводы делаем свои, и за его путаницей и умолчаниями стараемся разглядеть настоящую историю. Не так ли всегда происходило в высшем обществе, которое так хорошо знал и понимал Пушкин.
Теперь от теории перейдем к конкретным эпизодам, в которых невидимый рассказчик явно оставил след. Чтобы понять, кто он, мы должны усмотреть в рассказе те самые индивидуальные черты, о которых сказано выше. Дубровский рассказывает историю правдоподобно, старается на лгать по-крупному, он расставляет акценты, где-то что-то умалчивает и словно невзначай подталкивает нас к нужным выводам. Что им движет? Тщеславие, пожалуй,… Да, слава сладка! Как хотелось бы Дубровскому, написав повесть о себе, в глазах всех выглядеть героем, вселяющим страх врагам и восхищение дамам! Вот мы и поищем тщеславие в рассказчике.
Прощание с крестьянами.
Покидая сожжённое село, Дубровский навсегда прощается, признавая над крестьянами нового хозяина: «Ну дети, прощайте, иду, куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином». Мы подробно разбирали, что он отправился в Петербург. Но если так оставить в романе, рушится легенда: Дубровский сам по себе, а крестьяне ютятся в землянках. Повествователь вставляет нечто невнятное: «Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу». Что это за место свидания? Он не был там три года и даже не имел намерения, а появился почти случайно.
Это странное назначение места свидания явно противоречит его прощальным словам. Человек существо противоречивое, это так. Но здесь дело не в нарушении логики героя. Мы видим подталкивание, повествователь очень хочет, чтобы мы поверили в героя-разбойника. Действительно, если он атаман, то почему бы не определить место сходок? Но здесь есть еще интересный нюанс. Эта фраза выдает нам желание повествователя оправдаться перед читателем. Крестьяне вынужденно поселились в роще, потому что Дубровский сжег все село. Он обрек их на тяжкую жизнь, а сам преспокойно где-то жил, может быть в столице? Нет! Он не просто их атаман, ведущий где-то роскошную жизнь. Автор «разбойничьего романа» хочет убедить читателя, ни разу не говоря прямо, но всячески намекая, что они не бедствуют по его вине, он с ними все это время в столь же тяжких условиях. Они неуловимые разбойники из кистеневской рощи, которыми Дубровский руководил, сам живя в землянке. Как потом он сказал в прощальной речи: «под моим руководством вы обогатились».
Лжедубровский.
Вспомним рассказ помещицы Глобовой на празднике в Покровском про сослуживца ее покойного мужа, которого она приняла за Дубровского.
Для чего повествователю, заинтересованному представить себя героем-разбойником, эта история с Лжедубровским? Она как будто разоблачает миф, разве нет?
А вот ради этих слов «генерала», написанных тщеславной рукой повествователя: «Это странно, я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет, нет ли тут плутни…» И еще: «Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». И вот ради этих слов приказчика: «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с богом – отдай это на почту». Дубровский занимается, как сейчас говорят, саморекламой. Ему кажется, что история с «генералом» не разрушает его миф, а напротив, укрепляет. Усатый «генерал» подтвердил, что Дубровский разбойник, но благородный! Но мы-то все видим! И смеемся, вместе с Александром Сергеевием. Все-таки умел он тонко шутить!
Убогость «Сезама» и нищета разбойников.
В самом конце «великой» разбойничьей вольницы все богатство, собранное шайкой умещается в землянке барина. И что это за богатство? «Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женской серебряный туалет и трюмо». Добыча разбойника, собранная во временное укрытие, явно не соответствует раздутому сплетнями масштабу геройств и разбоя. Приходит мысль, что оно даже не… отобрано у богатеев, а куплено? На деньги все того же несчастного подло ограбленного Антона Пафнутьича? Мелковато для для Ринальдо или Робин Гуда! Впрочем, романтическая барышня могла бы впечатлиться этим «раем в шалаше» — в знании женских слабостей герою не откажешь. Может атаман нищ, но разбойники богаты?
Мы уже обращали внимание на описание быта разбойников, их одежды, их бедности. Степка, штопающий обноски… Через несколько дней после сражения, Дубровский собрал «сообщников» и объявил: «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии». Ну чем не политик? Смотрит на нищих в штопаных обносках и утверждает, что они имеют приличный вид!
Думается, такую речь Дубровский не мог произнести перед крестьянами, видя их перед собой. Это огрехи повествователя, которые оставлены Пушкиным, чтобы яснее проступала двуслойность романа и фигура повествователя. Чтобы убедить нас в реальности и успешности разбойного дела, повествователь Дубровский сочиняет речь атамана. Его тщеславие здесь особенно заметно, он смешон своей претензией на Пугачевский размах.
Мы должны предположить и рассмотреть также версию невнимательности Пушкина. Но нестыковка между нищетой шайки и речью слишком бросается в глаза, чтобы принять это — два эпизода следуют в тексте буквально один за другим. Предположим, Пушкин невнимателен к деталям. Но не к слову! Читаем внимательно: «Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после… он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. – Вы разбогатели…». Какое время прошло между сражением с солдатами и прощальной речью Дубровского? Может показаться, что достаточное, чтобы разбойники успели разбогатеть под командованием Дубровского. Но… «несколько дней после…» После чего? Вот это едва заметное тонкое место, опять намеренно оставленная повествователем двусмысленность. Написано так, словно «несколько дней после…» отправки роты солдат и рассеяния шайки. Но нет! Не мог же Дубровский собрать всю шайку через «несколько дней» после ареста сообщников и допроса. Его тогда уж не было с ними. Как они сами показали, он оставил их и больше не появлялся. А это значит, что слова «несколько дней позже…» возвращают нас к дню сражения, когда мы видели весьма и весьма скромный быт шайки.
Итак, мы имеем характерную для романа временную петлю, которых так много в романе. Именно постоянные скачки во времени разрывают временную шкалу и последовательность событий, и продолжительность истории оказывается совершенно спутанной, на что мы обратили внимание в начале исследования. После описания сражения повествование забегает вперед в одном абзаце: «Последние происшествия…». А далее фразой «Несколько дней после…» мы возвращаемся ко времени сражения. Выправив временную петлю, мы можем расположить события в их правильной последовательности: сцена быта разбойников, нападение солдат на лагерь и сражение, речь Дубровского перед крестьянами и отбытие заграницу, мероприятия правительства, поимка нескольких человек из шайки, от которых получены сведения об отбытии Дубровского в неизвестном направлении.
Так зачем было запутывать читателя так хитроумно? Повествователь сначала описал нищету разбойников до его появления в роще. Сделал он это, чтобы оттенить свои «успехи», как атамана шайки. Вот только по времени эта версия никак не складывалась, пришлось написать туманно. Так бывает, когда рассказчик слегка привирает: он путается, петляет, но все равно оставляет ощущение, что соврал. Пушкин это ощущение донес: кому надо, тот поймет.
Любит или не любит?
С «любовью» Дубровского к Маше мы разобрались, кажется. Посмотрим, как повествователь описывает чувства Маши.
Дубровский убил медведя, Маша была изумлена. «Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию». Далее: «читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь».
«Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного […] Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза […] Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце».
После получения записки: «Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку».
Дубровский явно льстит себе. Он сочиняет движения ее сердца, предугадывает их, как опытный искуситель. Он не помышляет, что может быть иначе, что ее сердце не любит его, что оно чувствует его низость.
Что же изменилось в отношении Маши к Дубровскому, когда Дефорж превратился в дворянина? Она молчит, не отвечает на мольбы. Потом у нее истерика, уже в комнате. И вот ее слова примерно через год, когда приехал свататься князь: «Нет, нет, – повторяла она в отчаянии, – лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». В ряду: «умереть, в монастырь, пойду за Дубровского» Дубровский — последний и наихудший вариант.
В сцене «освобождения» после венчания с князем, она, хотя и не произносила клятвы, твердо отказывает Дубровскому. А он никак не поймет: «Что вы говорите…». Ясно, что Дубровский не понимает Машу. Совершенно. Почему? Он любит себя. Дубровский-писатель не может без сбоя в умственном пространстве описать происшедшее. Это как: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..», или: любит – не любит; любит – не любит… «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место».
- Исторический аспект
Как мы увидели, роман охватывает довольно длительный период перед декабрьским мятежом 1825 года и столько же времени после него. В нем схвачена и донесена до нас самая суть той стороны русской жизни, которая возмущала вернувшихся из Европы молодых дворян, и которую они жаждали преобразовать: беззаконие и самодурство местных бонз, на которых не найти управы ни в суде, ни у царя. Само восстание никак не упомянуто. Поменялось ли что-то после восстания? Можно сказать, да. Появились и начали проникать в толщу страны первые струи свободной жизни. Невозможно было представить ранее, что в доме всевластного генерала появился выскочка-француз, который осмелился отстаивать свое достоинство и даже пристрелить генеральского медведя. И генерал не только не выпорол его, но даже стал уважать. Эти едва заметные нам, читателям из совершенно другой исторической реальности, мелочи для людей того времени были отнюдь не мелочами. Эти происшествия бросались в глаза, казались знаками новой эпохи. Это было настолько необычным, несвойственным жителям России и в то же время привлекательным поведением, которое без последствий мог позволить себе только француз, иностранец, не знавший русских обычаев. Но его поступки уже принимались в медвежьих углах России. Это были великие перемены! И самое поразительное, что в романе под личиной европейца действует русский человек, дворянин. Значит, рабская психология стала потихоньку проветриваться, заменяясь свежим воздухом перемен, воздухом свободы. Такими видел благие плоды декабрьского восстания Пушкин. Плоды были и плохие, и добрые. Удивительно, как же часто в истории России повторяются сюжеты, как актуален Пушкин в наше время! Перед нами стоят те же вопросы, что и двести лет назад.
- Легенды, общественное мненье и их герои.
Пушкина очень интересовало, как формируется общественное сознание, как рождаются мифы и легенды. Эта одна из центральных тем, которая затрагивается им в «Капитанской дочке», в «Борисе Годунове» и в «Дубровском», то есть произведениях, предметом которых были наиболее значимые страницы нашей истории. Через двести лет этот вопрос развился в науку и обрел практическое значение, описываемое термином «манипуляция общественным сознанием».
Пушкин показывает нам, как независимо от человека рождается и живет миф о нем. Кроме имени и некоторых эпизодов биографии герой мифа может не иметь никакого отношения к своему прототипу из реальной жизни. Это мы видим на примере Пугачева, Годунова и Дубровского.
Легенда о Дубровском питалась недовольством застоявшейся жизнью, ветром перемен из Европы и несбывшимися мечтами, связанными с восстанием. После поражения декабристов на Сенатской площади тем, кто им сочувствовал, да и нет только им, нужна была легенда о несломленном, непобедимом и неуловимом борце за справедливость. Противостояние Дубровского и Троекурова, происходившее больше в умах и сердцах, было сражением молодости и новой жизни с отсталостью и самодурством.
- Временная структура романа. Временные петли.
Мы упоминали, что Пушкин свободно обращается с временной тканью повествования. Он часто совершает небольшие экскурсы в историю, иногда заметно ускоряет темп повествования. В двух местах он разрывает ход событий, формируя временные петли. Это делает повествование более интересным, связывая эпизоды, разнесенные во времени. Но очевидно, что цель писателя иная: сохранить все указания на сроки и на ключевое событие (декабрьское восстание 1825 года), но сделать их неприметными. Рассмотрим подробнее одно из таких мест в романе:
В главе VII рассказывается о следствии в день после пожара в имении Дубровских и гибели судейских. Затем следует описание происшествий, случившихся вскоре: «другие вести дали другую пищу любопытству и толкам». Рассказывается о появлении разбойников, о грабежах. Сроки не указаны, можно представить любой период времени. В следующем абзаце упомянута дата (праздник Покрова), без указания года: «Между тем наступило 1-е октября – день храмового праздника в селе Троекурова». Создается впечатление, что год все тот же. В указанном абзаце обосновывается исторический экскурс, занявший один абзац следующей главы. В нем описывается жизнь Троекуровых и воспитание Маши вплоть до появления француза-учителя и его присутствия на праздничном обеде в Покровском. Вечер 1 октября и ночь занимают три главы. В XI главе – опять временная петля: Пушкин переносит нас назад, но уже на три недели, ко времени появления Дубровского в Песочном и покупки им документов у француза, затем кратко напоминает о его работе учителем, и, наконец, возвращает нас в ночь после праздника и к завтраку 2 октября с участием Дубровского и ограбленного им Спицына.
Что нам дает такая замысловатая временная конструкция? Три года между смертью Андрея Гавриловича Дубровского в конце сентября 1824 года и праздником 1 октября 1828 года, включающие события 14 декабря (по старому стилю) 1825 года, незаметно вырезаются и превращаются максимум в две недели. При этом отпадают всякие подозрения цензоров: всё действие романа после праздника совершается в губернии, нет и намека на декабрь и Петербург. Но если читать внимательно, мы увидим много неточностей при таком монтаже: в эти две недели не вмещается почти месяц пребывания Дубровского в роли учителя; остается непонятным, когда и откуда возникли у Дубровского деньги на покупку документов, разница в возрасте между Машей и Владимиром превращается из двух лет в пять и т.д. На эти неточности обратили внимание многие критики. Для еще более внимательного читателя видна полная перемена статуса и характера Владимира, что уж точно не случилось за две недели. Сопоставив свидетельства о его возрасте из нескольких источников, мы обнаруживаем, что прошло три года и нашему герою уже не двадцать, как в год смерти отца, а двадцать три года. Вернув три года, мы получаем объяснение всем противоречиям.
- Временная шкала романа:
Июль (ок. 7-го) 1805 года — Рождение Владимира Дубровского;
Конец 1807 – начало 1808 года — Рождении Марии Троекуровой;
Осень 1812 года — Отъезд Владимира Дубровского в кадетский корпус в Петербурге;
1819 год — Удаление воспитательницы мамзель Мими; начало самостоятельного образования Маши на французских романах в возрасте 11 лет;
1819 год; — рождение Саши Троекурова от m-lle Мими;
1818 год — ссылка на указ от 1818 года в определении суда;все основные события могли происходить только после этой даты;
Начало основных событий романа
1821 год, начало осени — Ссора: «Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле»;
Осень 1821 г. – лето 1822 г. — Развитие ссоры, работа Шабашкина, «дело стало тянуться»;
9 июня 1822 года — «Генерал-аншеф Троекуров прошлого 18… года июня 9 дня взошел в сей суд с прошением» — из определения суда от 18… года октября 27 дня;
27 октября 1823 года — Состоялось определение суда; ссора произошла осенью, прошение было 9 июня (очевидно, следующего года), и этот год был прошлым относительно даты определения суда, следовательно, определение вынесено в 1823 году: «18.. года октября 27 дня уездный суд рассматривал дело о неправильном владении…»;
10 февраля 1824 года — Оглашение приговора, на котором А.Г. Дубровский вышел из себя; «18.. года, февраля 9 дня Дубровский получил […] приглашение явиться», «и на другой день явился в присутствие уездного суда»;
6 декабря 1824 года — «Миколин день» — праздник Николая чудотворца, на который умер упомянутый в письме Орины Егоровны Бузыревой пастух Родя; прошло больше года с начала болезни А.Г.Дубровского;
декабрь 1824 — Две недели дождей в необычно мягкую зиму 1824/1825 года, которые упомянуты в письме няни;
декабрь 1824 года — Отправлено письмо от няни Орины Егоровны Владимиру Дубровскому: в момент отправки письма дожди еще шли; Снег выпал только в январе, так что письмо могло быть отправлено и в самом начале 1825 года;
10 февраля 1825 года — «Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана; Кистеневка принадлежала Троекурову», по Указу Екатерины II от 1762 года срок апелляции составлял 1 год; о том, что срок истек упомянуто, когда Владимир находился с больным отцом в Кистеневке;
Начало лета 1825 года — Получение письма Дубровским; он удивлен печатью (датой); получив письмо, Дубровский засобирался и через три дня отбыл на родину; уже было весна или начало лета 1825 года: «Двор… обращен был в некошаный луг, на котором паслась опутанная лошадь», сено косили после дня Петра и Павла на 29 июня;
Конец сентября 1825 года — Кирила Петрович приезжает в Кистеневку с намерением примириться; в тот же день умирает Андрей Гаврилович Дубровский;
Конец сентября 1825 года — Через три дня после смерти старшего Дубровского, совершив поджог, Дубровский отбывает в неизвестном направлении (Петербург);
14 декабря 1825 года — Восстание декабристов на Сенатской площади;
Начало сентября 1828 года — Появление Дубровского на станции рядом с Кистеневкой;
1 октября 1828 года — Престольный праздник в храме села Покровское, обед в доме Троекурова; в ночь – ограбление Дубровским помещика Спицына;
Начало октября 1828 года — Первое свидание Дубровского с Машей; бегство Дубровского из дома Троекуровых;
Начало лета 1829года — «В начале следущего лета…» появляется князь Верейский в своем имении Арбатское;
Июль 1829 года — «Луна сияла, июльская ночь была тиха…»; сватовство князя; второе свидание с Дубровским;
Начало осени 1829 года; — «Вошли в холодную, пустую церковь», в которой совершился обряд венчания Маши с князем;
Зима 1829/1830 года; — Разбойники сидели «без шапок, около братского котла», то есть обычно уже ходили в шапках; сражение в кистеневской роще;
1830 год (предположительно) — Дубровский покидает Россию.
При определении временных интервалов во всех случаях берется минимальный возможный промежуток времени между событиями. Например, если одно событие произошло, согласно текста, в июне, а следующее за ним в феврале, но без указания года, то полагается, что между событиями прошло семь месяцев, а не год и не два и семь месяцев. Хотя в большинстве случаев и так из контекста ясно, сколько примерно прошло времени между событиями. Предварительная ориентировка на 1820-е годы, а скажем не на 1700 – е, следует из постановления. Косвенно на примерные годы и сроки событий указывает опрос под присягою, проведенный для земельной тяжбы, кистеневских крестьян, которые показали, что Дубровские владеют имением около 70 лет. Если прибавить 70 лет владения к дате 1752 г. земельного регламента, на который дается ссылка при рассмотрении купчей на землю, получается, что тяжба происходит в 20-х годах. Еще поминается указ 1818 года в определении суда, что также дает начало событий не ранее 1820-х.
- Комментарии к временной шкале
Осень 1821 года. Ссора.
Итак, «раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле». Осматривая перед охотой псарный двор Троекурова, друзья-помещики Кирила Петрович Троекуров и Андрей Гаврилович Дубровский рассорились. Прошло некоторое время, судя по повествованию не очень большое, т.к. вражда еще не унялась и сплетни о ней передавались. Однажды крестьяне Троекурова, зная вражду хозяев, решили ей воспользоваться, чтобы безнаказанно покрасть дров в роще Дубровских. Андрей Гаврилович «против правил войны» высек их, а лошадей отобрал. Разгневанный Троекуров поручил подвернувшемуся заседателю Шабашкину найти судебную зацепку к отъему имущества соседа.
9 июня 1822 года. Заявление в суд.
К 9 июня 1822 года документы собрались, и Троекуров, как сказано, подал прошение в суд с целью отобрать имение у Дубровского: «… означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18… года июня 9 дня взошел в сей суд с прошением…». Согласно нашему правилу мы должны предполагать минимальный срок между событиями. Кроме того, разумно полагать, что между началом ссоры и заявлением в суд не могло пройти два года или более. Минимальное время из формального подхода – около десяти месяцев наиболее подходит и по смыслу. Этого времени было достаточно Шабашкину для проведения опросов крестьян и обмена письмами с Дубровским. Так что можно уверенно оставить датой заявления 9 июня 1822 г.
27 октября 1823 года. Заседание суда.
Дело тянулось, Дубровский мало обращал на него внимания. Суд собрался на заседание. В протоколе заседания записано, что прошение в суд было подано Троекуровым в предыдущий год «июня 9 дня». Значит, от заявления до заседания минул еще год, и «18… года октября 27 дня уездный суд рассматривал дело о неправильном владении…». Таким образом, дата рассмотрения дела определяется однозначно — 27 октября 1823 года.
10 февраля 1824 года. Оглашение решения суда.
Выслушивание решения состоялось 10 февраля 1824: «Как бы то ни было, 18… года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье…». Между заседанием суда и оглашением решения прошло несколько месяцев. Это и по смыслу так: между 27 октября и 10 февраля вставляем по нашему правилу 4 месяца (не год и 4 месяца). А с начала ссоры прошло уже два с небольшим года. Ссора от эмоциональной стадии воспаленной гордости давно перешла в хроническую язвенную форму, но еще была болезненно воспалена. «Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице противника».
Отвлечемся от сухих дат, чтобы выразить суть дела. Выехал Дубровский в тот день, переночевал у знакомого купца, и в суд явился на следующий день утром. Заслушивание решения произвело такое потрясение на Андрея Гавриловича, что он помешался. Помешался, но сказал, как многие юродивые самый смысл происшедшего: низменные страсти, бахвальство, гордость, превозношение — вторглись в их дружбу, словно псы в церковь, и осквернили ее. В своей безумной речи он обращался к Троекурову «ваше превосходительство». Ум его расстроился, но сердце не выказывало никакой злобы, оно негодовало на грех против дружбы. У Троекурова торжество отравилось. Он был другого характера, вспыльчив, но отходчив, с душой такой же простой, христианской, как и у его обезумевшего друга. Потому генерал долго мучился совестью и не стерпел, приехал мириться, но поздно. Да и не судьба. Сын же не знал их дружбы и не чувствовал соединяющих их сердца нитей, и вместо примирения, ожесточил генерала.
Памятный всем теплый декабрь 1824 года. Письмо няни.
Далее описывается болезненное состояние Андрея Гавриловича, он редко выходил из комнаты, по целым суткам задумывался, не имел ни с кем сношения. Судя по характеру описания, прошли не недели, но и не годы. Письмо Владимиру Дубровскому няня Орина Егоровна написала, как уже ранее разбиралось, в середине декабря 1824 года, то есть через девять месяцев с начала болезни Андрея Гавриловича. Вряд ли речь в письме шла о летнем миколином дне (22 мая по н.ст.), когда каждодневные дожди привычны – крестьяне любят обсуждать какие-то необычности в погоде, а не то, что случается регулярно. Кроме того, авторский слог так точен, что длительность времени чувствуется безошибочно: «прошло несколько времени, … припадки сумасшествия не возобновлялись… забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам». Если захочется определить масштаб времени и приложить к этому отрывку, обнаружится: неделя, месяц, два – маловато; года полтора, два – слишком много. Точнее всего подходят те самые несколько месяцев, но не более года.
Время получения письма — начало лета 1825 года, что ясно из следующего:
Начало лета 1825 года. Отъезд в Кистеневку.
Получив письмо, Дубровский засобирался и через три дня отбыл на родину. Уже было весна или начало лета 1825 года: «Двор… обращен был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь». Трава уже подросла, но не была скошена. Крестьянская жизнь была строго размеренной: косить траву начинали после окончания поста в Петров день (29 июня по ст.ст.). Получаем приблизительно середину лета, как вероятное время приезда.
На лето 1825 года указывает и еще одно обстоятельство. В романе упомянуто, что Владимиру Дубровскому было во время посещения родного имения 19 лет. Он отбыл на учебу на восьмом году жизни, и отсутствовал, как сказано двенадцать лет. Известно, что в 19 веке из кадетского корпуса выпускали унтер-офицеров в армию весной на девятнадцатом или двадцатом году жизни, обычно после двенадцати лет учебы. Но Дубровский был выпущен из корпуса в 1824 году: в главе восьмой упомянуто, что к моменту написания письма, т.е. к декабрю 1824 года, Дубровский уже служил корнетом в гвардейской пехоте. Это возможно в одном случае — если он весной 1824 года в неполные девятнадцать лет окончил корпус и отправился на службу, и примерно через год появился в Кистеневке незадолго до своего двадцатилетия. Единственная возможность выполнить эти условия – приехать в середине лета 1825 года.
Более точно дату его рождения можно определить по святкам – вокруг 7 июля.
Упомянем еще одну интересную подробность. На станции Песочное, рядом с Кистеневкой, уже четвертые сутки ждал барина кучер Антон. Скорее всего, камердинер Гриша успел предупредить письмом, что едет молодой хозяин, и почта, которая перемещалась с курьерской службой по тракту быстрее обычных путешественников раза в полтора, обогнала их как минимум на четыре дня. Значит, сам Дубровский ехал не меньше семи-десяти дней – как раз где-то до Болдино на Волге столько времени и занимает дорога из Петербурга. Там, недалеко от Болдино, у Александра Сергеевича была наследственная деревенька Кистенево.
Середина-конец октября 1825 года. Возвращение из отпуска в логово мятежа.
После прибытия молодого Дубровского в Кистеневку прошло некоторое время, наверное, два-три месяца. Ему исполнилось двадцать лет. Троекуров, у которого совесть роптала, «оделся потеплее (дело было уже в конце сентября)», сел в дрожки и поехал мириться. В этот день Андрей Гаврилыч Дубровский скончался. На третий день, после похорон, Владимир Дубровский отбыл. Дубровский явился, следовательно, в Петербурге (или Васильково, о чем сказано было ранее) как раз накануне мятежа, то есть, с учетом дороги, в конце октября 1825 года.
Появление Дубровского в Покровском в конце августа – начале сентября 1828 года.
Ровно через три года после его первого появления в Кистеневке и смерти отца, в начале сентября 1828 года, Дубровский вновь появляется в родных краях. Ему уже двадцать три года. К празднику Покрова (1 октября по ст.с.) он уже около трех недель пребывал в роли учителя в имении Троекурова. Отсюда и вычисление времени его появления в Покровском.
Начало лета 1829 года. Появление князя Верейского в имении Арбатово.
В начале 13 главы так и сказано: «В начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича».
Сватовство князя в июле 1829 года.
Второе свидание Дубровского с Марьей Кириловной в саду произошло в тихую июльскую ночь в день сватовства князя (Глава 15).
А ближе к холодам, то есть осенью 1829 года совершилось венчание Марьи Кириловны с князем в «холодной и пустой» церкви.
Не ранее зимы 1829/1830 года произошло сражение в Кистеневской роще.
Уже в холода («множество людей..обедало, сидя без шапок») случилось сражение с солдатами в Кистеневской роще. Тогда еще правительство не заинтересовалось Дубровским как следует, так что солдаты могли быть направлены из какого-нибудь местного гарнизона по требованию князя Верейского.
Сразу после сражения, через восемь-девять лет после начала всей изложенной в романе истории, Дубровский отправляется заграницу.
КОНЕЦ