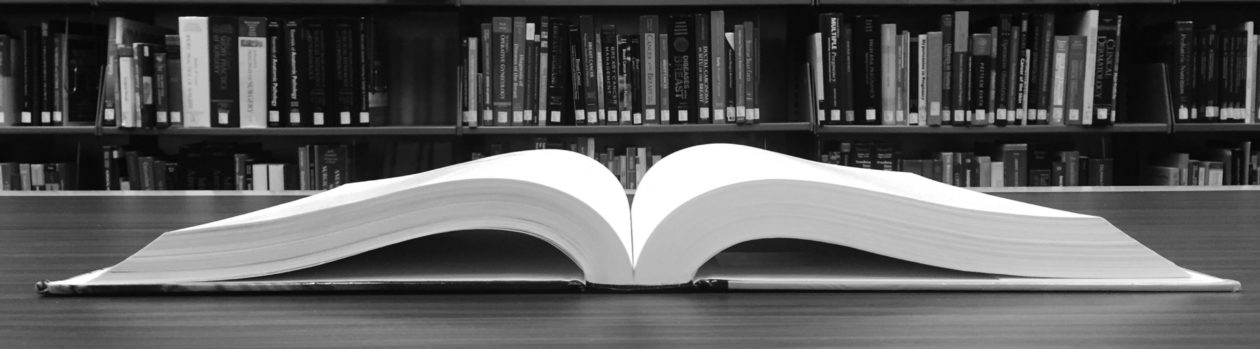История села Горюхина
Почва.

Для начала обратим внимание на структуру повести. Автором «Истории села Горюхина» является некий Белкин. Мы об этом догадываемся (прямого указания нет) из упоминания деда и прадеда летописца: Ивана Андреевича и Андрея Степановича Белкиных. Но при внимательном рассмотрении обнаруживается, что Иван Петрович Белкин, автор «Повестей…» и летописец Белкин – это разные лица, отличные почти во всем: и характером, и образованием, интересами, стилем письма и даже годом рождения. Главный герой «Истории…» мог бы оказаться родственником Ивана Петровича (например, братом), но автобиографичность (хотя и неполная) это исключает: не могло быть два барина-литератора в одном селе почти в одно время, при том что в письме соседа из села Ненарадово и в летописи упоминается один. Таким образом, Иван Петрович Белкин, сам будучи вымышленным персонажем и автором «Истории села Горюхино», и цикла «Повестей…», как и любой почти писатель не захотел ставить себя в центр повествования и ведет его от лица выдуманного им летописца Белкина. Это не просто следование каким-то правилам или потакание вкусу публики. Очевидно, «писатель» хотел достичь совершенно определенной цели, которая прояснится позднее.
Главный герой, бытописатель «страны Горюхино», несмотря на краткость сведений о нем, представлен Белкиным ярко, даже талантливо. Создавая этот во многом автобиографичный образ, Белкин удалил из с него все городское, все из слоя высшего общества, что могло бы исказить простоту и непосредственность истинного горюхинца. Он делает летописца моложе себя, перенося его рождение с 1798 на 1801 год, «спрятав» три года, возможно потраченные Иваном Петровичем на столичное образование (в точности сведений о возрасте и жизни самого Ивана Петровича, полученных от соседа-помещика, сомневаться не приходится: последний до крайности педантичен). Летописец всю сознательную жизнь провел в родном селе. Три недели в московском пансионе Мейера и несколько лет службы в гвардии были настолько несущественны для формирования его мироощущения и образа мыслей, что он уделил этому пару строчек и то из природной скрупулёзности. Умению выражать мысли понятным для образованного читателя образом он научился из единственной книги, которую выучил наизусть еще в детстве. Это был выдержавший десять изданий «Письмовник» профессора Николая Курганова, который имелся почти в каждом образованном семействе России. Обычный письмовник – нечто вроде современной школьной хрестоматии. В ней собраны примеры эклогий, стансев, сонетов, идиллий, басен, мадригалов, эпитафий, исторических анекдотов, изложены основы стихосложения и грамматики, сведения из разных областей науки и т.д. – все то, что нужно было «образованному» человеку того времени. Содержание письмовника автор усвоил к десяти годам, хотя каждый раз находил в нем новые красоты. Все остальные сведения о мире он почерпнул из сельской жизни: мальчишкой играл на равных с дворовыми ребятами; повзрослев, жил общими со всеми заботами. Единственное его отличие от односельчан, кроме того что он номинально оставался барином, состояло в большей за всю историю села образованности. Следуя зову сердца, молодой человек принялся писать. Писал, естественно, по лекалам единственной известной ему книги. Стихосложение не задалось, получилась одна эпиграмма; в остальных жанрах: одно назидание и несколько анекдотов, слышанных от разных особ и «украшенных живостью воображения», которые он назвал повестями. На этом запас историй и мыслей (удалась одна) истощился. Но он, пребывая в поиске, не отчаивался: «Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя». Нежданно-негаданно обнаруживается настоящий исторический источник: множество календарей почти за полвека с надписями. Наш герой с рвением приступает к великому делу, главному в его жизни: созданию летописи села Горюхина. Читая его труд, любой улыбнется: фигура «летописца», судии и пророка выглядит довольно комичной. Но не будем торопиться…
Как я уже отмечал, «писатель» Белкин –достаточно талантлив, он способен в немногих словах героя (летописца Белкина) передать атмосферу народной жизни и погрузить в нее читателя. Архаизмы летописца — это не помарки «плохого» писателя Белкина (здесь я не согласен с А.Н.Барковым), они наивно взяты летописцем из книги, подобие которой он пытается создать. Он пишет свой письмовник, подражая Курганову. Оттуда же, из единственной читанной им книги, последовательность литературных опытов: прямо по оглавлению «Письмовника». И.П. Белкин стоит в общественной страте выше него, ставшего (или бывшего) простым, хоть и образованным, сельским жителем. Но у них есть и общая черта: природная, почти от рождения тяга к литературному творчеству — признак природного дара.
Но, очевидно, Ивану Петровичу Белкину не хватает опыта. Создавая образ летописца, он «проговаривается», приписывая ему увлечение современной литературой и упоминая детали уже своей биографии. Откуда у него знание мелодрамы Коцебы или поэмы В.Л. Пушкина, французской истории по Милоту и т.д.? Эта образованность совершенно выбивается из образа простеца, коего «успехи … хотя были медленны, но благонадежны», и который «на десятом году от роду… знал уже почти все то, что поныне осталось… в памяти, от природы слабой». В Петербурге он «каждый день тихонько ходил… в театр, в галерею четвертого яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в **, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние»». «Горюхинец» читает не только стихи и прозу, но труды современных историков, литературную критику. Он погружен с головой в литературную жизнь, проводит время за чтением литературных журналов, и так бывает увлечен ими, что не находит времени поднять глаза и посмотреть на соседа за столиком в кафе. Однажды им оказался известный литератор. Белкин, услышав краем уха знакомую фамилию, все бросает и бежит за ним следом. Что-то не вяжется это с образом слабого памятью сельского домоседа.
Иван Петрович видит несоответствие, но ему хочется на что-то намекнуть, очень хочется показать образованность своего героя, в которой совсем недавно ему полностью отказал. Он, правда неумело, подсказывает: «Не относитесь поверхностно, пренебрежительно, со снисхождением к «Истории села Горюхина». Летописец, хотя и кажется наивным, вовсе не дурак, за его странной манерой и простодушием проглядывает нечто важное и большое. Не воспринимайте его летопись как мою сатиру, насмешку над самомнением «пророка веков и народов». И я, человек образованный и тонко чувствующий, не стал бы для вас представлять низкопробную литературу».
Проговорившись, Иван Петрович чувствует, что вышло криво и пытается выправить: мол, герой прочитал поэмы, когда переписывал тетрадки, ходившие по рукам. И в столице был-то всего неделю — ничего путного за неделю не приобресть для ума… «Как же успел узнать всех актеров? — спросим мы. — Когда пристрастился по утрам читать литературную критику?» Неубедительно! Мы понимаем, что «оговорки» попущены писателю Белкину более высокой инстанцией – А.С.Пушкиным. Так, умалив искусность «писателя» Белкина, Пушкин решил задачу разделения повести на два сюжетных уровня. Это тем более оправдано, что сверхзадача Пушкина решается общей композицией всех текстов, связанных с Иваном Петровичем Белкиным, а не его писательским мастерством и талантом.
Итак, попробуем разобраться с общей структурой произведения и с героями, находящимися как внутри, так и за пределами основной новеллы.
На низшем уровне мениппеи, на уровне сказа мы узнаем много всего из жизни простого русского крестьянства: когда женились, как работали, отдыхали, что праздновали, во что верили. Эта этнография, очевидно, очень интересна самому летописцу – ведь он занят «серьезным» делом. И для нас это может быть занимательно, если мы любим историю. Но самостоятельной художественной ценности в этом описании нет. Кроме того, мы не знаем, насколько можно доверять написанному – автор кажется нам то смешным и недалеким, даже комичным, то наивным. Мы не до конца чувствуем, понимаем, что за человек, этот летописец.
Если подняться выше летописца Белкина в иерархии мениппеи, мы увидим перед собой его первообраз — Ивана Петровича Белкина. Прежде всего перед нами встает вопрос: зачем Пушкину понадобилось разделение на два Белкина — умного и образованного писателя и простеца-летописца? Дело в том, что этот прием позволяет взглянуть на летопись и его автора глазами Ивана Петровича Белкина, мы получаем новую точку обзора и его эстетическую и этическую оценку. И этого оказывается достаточно, чтобы одномерный сказ о глухом селе приобрел объем. Мы начинаем понимать, что наш летописец не сельский дурачок – ведь Иван Петрович писал его с себя, и при том с явной симпатией. Легко видеть, что оба они любят и сельскую жизнь, и народ. Иван Петрович Белкин знает жизнь на земле не хуже своего героя, но, очевидно, без перевоплощения в летописца он описал бы ее иначе, не так наивно и искренне. И тогда утратилась бы непосредственность и погруженность в среду бытописателя; описание извне и свыше лишило бы рассказ жизни, то есть духа. А передать дух – это наивысшее искусство и талант писателя. Летописец же смотрит на все глазами народа, потому что он и есть сам этот народ. И мы теперь видим народ его умом, используя его органы чувств. Дух духом.
Поначалу, в предисловии к летописи, чувствуется еще влияние мира вокруг, встречаются обрывки сведений из прежней жизни и чувствуется тот, еще внешний, образ мыслей молодого Белкина. Постепенно это влияние затухает, и перед нами открывается новый мир. Так в лице обученного грамоте горюхинца мы получили идеального бытописателя русской жизни. Нашему летописцу не нужно погружаться в народную среду: он плоть от плоти народной. Даже Платов Лескова — это уже нечто рафинированное. Гоголь в «Тарасе…» или в «Вечерах…» хотя и ухватил народное, но подал его переваренным умом образованного литератора. Весь образованный класс, от дворян до разночинцев, ходили в народ, но крестьянская среда не впускала их, выдавливала как инородное тело. Это доставляло страдания русскому образованному обществу, что отражено в обширной литературе того времени. Многие брались, но никто до Белкина и даже после не описал жизнь русского народа изнутри с такой простотой и ясностью: для этого в глубинах народа не хватало навыка современной письменной речи, а у образованных выходцев из народной гущи не оставалось духа, погруженности в среду. Я говорю именно о духе, а не о быте и этнографии. Пушкин (в лице Ивана Петровича Белкина) – едва не единственный, кому удалось донести до нас русскую народную жизнь на уровне почти запахов, испарений почвы, через восприятие духа, не одними словами. Кроме писательского таланта именно структура вложенных новелл – то средство, которое позволило добиться почти невозможного.
Вчитайтесь в летопись, перевоплотитесь вслед за Иваном Петровичем Белкиным, посмотрите на мир глазами горюхинского летописца и рядового жителя (что в данном случае одно и то же). Это мир реальности легенд и сказок, где «леший бродит…», мир за пределами которого едва видны неясные очертания иных стран (соседних сел Дериухово, Перкухово, Бесовского болота), где великоросское наречие – это почти иноземная речь («Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский»). Здесь мы встречаемся с народным творчеством в его самом простодушном виде.
Вот перед нами Архип Лысый с его «сатирическим стихотворением», которое в «нежности» не уступит «эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходит… идиллии г-на Сумарокова (идиллии Сумарокова приведены в «Письмовнике» Курганова – прим. И.С.) . И хотя в щеголеватости слога и уступает новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием:
Ко боярскому двору Антон староста идет, Бирки в пазухе несет, Боярину подает, А боярин смотрит, Ничего не смыслит. Ах ты, староста Антон, Обокрал бояр кругом, Село по миру пустил, Старостиху надарил»
Это не слабоумие, как может показаться. Мы сталкиваемся с совершенно мифическим сознанием, сформированным на бескрайних русских просторах тяготами сельской жизни, разбавленной баснями, песнями, сказками, библейскими историями. Эффект погружения в иную реальность называют состоянием измененного сознания. Иногда этот эффект достигается гипнозом. Но здесь перед нами не искусственный мир, а разлитый на обширной земле «русский дух». Если его вдохнуть, можно забыть то, что осталось где-то далеко, в каких-то далях дальних.
Надышавшись, летописец перестает отличать миф от реальности: «После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству… Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования».
Или вот еще нечто столь же замечательное: «Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии… Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина».
А как прекрасна аллюзия горюхинцев на непорочное зачатие с деревенской пастушкой, сделавшейся беременною и не могущей «удовлетворительно объяснить сего случая»! «Глас народный обвинил болотного беса», то есть духа, но не святого. Простота народная здесь такова, так чисто передана, что и мысли злой на ум не прийдет.
Никогда не читал я столь краткого текста, написанного рукой «просветленного» автора, способного погрузить читателя целиком в иной мир. Подобное доступно только средствами религиозных мистерий, но уникальность «Истории села Горюхино» в том, что это почти исторически достоверная вещь, как настоящая летопись. Такова гениальность Пушкина, за время сидения в Михайловском перевоплотившегося в «горюхинца». Я мог бы здесь подробно смаковать каждый абзац повести, делать выводы, но оставлю это на усмотрение читателей. Главное понять, что нужно нырнуть в этот мир, перевоплотиться, даже преобразиться – и тогда откроется иная реальность. Мы почувствуем: «там русский дух… там Русью пахнет».